СКВОЗЬ "УМСТВЕННЫЕ ПЛОТИНЫ"
| В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон
СКВОЗЬ "УМСТВЕННЫЕ ПЛОТИНЫ" |
Вокруг "Современника"
У истока
Тридцать первого декабря 1835 года Пушкин написал письмо Бенкендорфу, испрашивая разрешение “в следующем, 1836 году издать 4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.,), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие английских трехмесячных Reviews” [1].
Николай I позволил, с тем чтобы “означенное периодическое сочинение” (обратим внимание на терминологию) проходило установленным порядом через цензуру [2].
16 января Уваров сообщил Бенкендорфу, что о сей высочайшей воле он предписал Петербургскому цензурному комитету к должному исполнению [3]. Так начался пушкинский “Современник”.
Он был непосредственно связано замыслом того “альманаха”, о котором Плетнев должен был думать осенью 1835 года как об “общем деле”. Три произведения, предназначавшиеся для этого альманаха, - “Путешествие в Арзрум” Пушкина, “Коляска” Гоголя и отрывок из его комедии под заглавием “Утро делового человека” - вошли в первый том “Современника”. Пушкин в расширенной форме осуществлял издательский замысел 1835 года.
Уже тогда, готовя альманах, Пушкин предвидел возможные затруднения. “Лангера заставь... нарисовать виньетку без смысла”, - пишет он Плетневу [4]. Еще в 1827 году Бенкендорф обнаружил антиправительственный умысел в виньетке к изданию “Цыган”: обломки цепей, змея, кинжал, чаша... Возникла переписка III Отделения с начальником московского округа корпуса жандармов А.А. Волковым; допрашивали типографщика Августа Семена. Дознались, что виньетка парижского происхождения и была у Семена в книге образцов шрифта, оттуда ее Пушкин и выбрал. Можно думать, что дознание не осталось секретом для Пушкина; с Августом Семеном ему пришлось иметь дело и позже. Приключения злосчастной виньетки на этом не кончились; Надеждин поместил ее в “Телескопе”, и она вновь вызвала подозрение [5]. А 22 мая 1835 года Московский цензурный комитет запретил другую виньетку, “изображающую чудовище, поражаемое кинжалом рукою невидимого” [6]
От всех этих неожиданных “применений” нужно было обезопасить будущий альманах, а теперь журнал, выраставший из альманаха.
Пушкин писал в прошении: “4 тома статей”. Это означало: четыре выпуска альманаха. Николай I определил будущее издание: “означенное периодическое сочинение”.
Во всех этих оттенках таился особый смысл. К началу 1830-х годов правительству было ясно, что альманахи, выходящие ежегодно и сохраняющие свое название, сближаются тем самым с журналами. Было издано предписание посылать их наряду с журналами на просмотр в III Отделение [7]. В то же время альманахи сохраняли свое промежуточное положение: то ли книга, то ли журнал [8] Разрешались они легче, нежели журналы.
Когда печально известная резолюция Николая “И без того много” поставила “плотину” на пути новых журналов, литераторы стали искать выхода в периодических и непериодических сборниках, И цензурное ведомство стало перед затруднением.
“Сборники разных сочинений, с прибавлением критики” заставляли “предполагать цель, общую всем периодическим сочинениям”, которые “не должны быть дозволяемы на основании общих цензурных правил”. Так гласил уваровский циркуляр 1841 года, обращавший внимание “вообще на тот род сочинений, которые, выходя в свет отдельными книжками или брошюрами, хотя не в определенные сроки, подобно журналам, но по цели и содержанию имеют много с сими последними сходства”. “Дозволение издавать литературные произведения в такой форме на основании общих цензурных правил, - предупреждал он, - легко может дать повод лицам, желающим употребить оную к уклонению от существующих постановлений о периодических сочинениях, и послужить к умножению числа подобных сочинений, которые, кроме названия, не имеют почти существенного различия от повременных и должны быть почитаемы за особый род журналов”.
Уваров был человек умный. В николаевской России любая раздраженная реплика императора могла приобрести силу закона. “И без того много” было законом, и Уваров исполнял его неукоснительно. Но он не мог не понимать, что такими законами движение печати не остановить, что невозможно запретить все альманахи и сборники и что нужно искать какого-то компромисса. Поиски такого компромисса он возложил на Санктпетербургский цензурный комитет.
Комитет поручил Никитенко разработать правила для различения сборников “от периодических изданий или журналов”.
Этот любопытный документ, составленный Никитенко, мы приведем полностью: он ретроспективно бросает свет на цензурный статус “Современника”.
“Ценсурный комитет, по тщательном рассмотрении и соображении сего проекта, положил донести его сиятельству следующее:
Между повременными изданиями надобно различать три вида: журналы в собственном и настоящем значении, куда относятся и газеты, сборники и книги, выпускаемые в свет известными отделениями или тетрадями (livraison).
Журналы есть постоянное от времени до времени обнародование сочинений, сведений и мнений, касающихся до современного движения всего, что занимательно или важно для общества, в отношении к его образованию и благоденствию,- след., обнародование сочинений, сведений и мнений, касающихся до современного хода и состояния наук, политики, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни. Почему к существу журнала принадлежат следующие условия:
1) повременный и периодический выход книг в определенные сроки;Все вышесказанное о журнале можно подвести под два главные понятия. Он есть представитель текущих явлений в области наук, литературы и проч. и судьба их. Хотя в журналах помещаются нередко статьи, содержащие в себе и общие начала или идеи, не имеющие, по-видимому, никакого отношения к современному движению мысли и жизни общественной, но не эти статьи дают им характер журнальный, а именно те, которые или содержанием, или, по крайней мере, направлением своим имеют в виду вопросы интереса настоящего времени.2) современность помещаемых в нем сведений и мнений, посредством коей непрерывно и последовательно представляется публике и оценивается каждое замечательное явление в науках, литературе и проч. с обязательствами делать все это на будущее неопределенное время;
3) Отсутствие систематической связи между отдельными частями, составляющими содержание издания. Наконец,
4) так как предназначение журнала идти вслед за течением времени и как посему он не может иметь определенного объема и предела, то к числу примечательных его свойств принадлежит также допущение правительством права объявлять о подписке на издание с требованием вперед известной суммы денег, без предварительного представления куда следует готовых материалов.
Сборники могут быть издаваемы или единовременно, каковы, например, хрестоматии, или периодически. Комитет обращает внимание только на последние, так как они сходством своим с журналами подали повод к вопросу, занимающему ныне ценсуру.
Сборник есть один из способов обнародования важных или любопытных сочинений и сведений в виде отдельных статей, касающихся до наук, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни. Он может быть общим, как, напр.. Энциклопедический лексикон, или специальным, как литературные альманахи и проч. Сходство сих сборников с журналами состоит в том,
1) что они могут выходить в свет частями или отдельными книжками в разные времена;Книги, издаваемые частями или тетрадями (livraison), отличаются от книг в общем смысле только способом своего появления в свет, при единстве плана, направления и содержания, составляющем обыкновенное свойство книг, они присваивают себе только права постепенного печатания и выпуска.2) что между статьями, составляющими их содержание, не находится систематической связи. Но между ними есть и различие, весьма важное и существенное. Оно состоит в том,
1) что сборник не предназначается для сообщения непрерывно- последовательных постоянных сведений о текущих явлениях по части наук, литературы и проч., а передает публике только то, что издатель находит или что написано другими замечательного вообще в этой области; он говорит не о том, что делается, а о том, что уже сделано.2) Сборник, не следя за непрерывным рядом сих явлений, не произносит и суда своего о них.
3) Сборник не назначает определенных сроков выхода своего в свет, хотя и может издаваться последовательно одною книжкою за другую; он может быть повременным изданием, но не периодическим.
4) Так как издатель сборника всегда имеет перед собою уже известную и определенную массу материалов, то объявление и подписка на оный сама собою становится в разряд книжных, а не журнальных объявлений.
На основании сих предварительных соображений нетрудно поставить и некоторые ограничительные для сборников правила с тем, чтобы, оставаясь хранилищами полезных знаний и любопытных литературных произведений, они не вторгались в чуждую им область журнальную. Комитет признает полезными следующие правила:
1) Не получившим права издавать журнал позволяется обнародовать различные статьи по одной или по разным вместе отраслям наук, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни отдельными книжками и в разные времена, так что все книжки вместе взятые могут составить одну книгу или материалы для книги.Мнение комитета было отослано в Главное управление цензуры; согласившись с ним, управление предложило принять его к руководству “в виде опыта” [9].2) В распределении статей издатели могут держаться какого угодно порядка, давать им единство и систематическую форму или помещать их сопершенно отдельными классами под рубрикою наук, искусств и т. п.
3) В сборниках такого рода нс могут быть излагаемы последовательно и в непрерывном порядке сведения о современных, текущих явлениях по какой бы то ни было отрасли наук, литературы и проч. с обещанием излагать все это и впредь.
4) Критика как последовательное и периодическое суждение о произведениях, выходящих по какой-либо отрасли наук, литературы и проч., а тем более полемика не должны быть допускаемы в сборнике; но не воспрещается издателю помещать в нем общие критические разыскания о разных предметах наук и проч.; также отдельные рассуждения о том, что сделано по ним в такую-то эпоху или такой-то период времени. На основании сего и 3-го § все статьи, известные под названием: библиография и критика исключаются из сборников.
5) Подписка на сборник со взносом денег допускается не иначе как отдельно на каждую книгу, рассмотренную уже и одобренную цензурою.
6) Сборник рассматривается одним ценсором на том же самом основании, как вообще все книги”.
Все эти дефиниции были сформулированы, как уже сказано, в 1841 году, в сентябре месяце, почти через шесть лет после описываемых событий. По ним видно, однако, какие подводные камни должен был обходить Пушкин, начиная хлопоты о “Современнике”.
“Четыре тома статей” или “периодическое сочинение”? Вспомним определение Никитенко: сборник не назначает точных сроков выхода своего в свет; он - издание “повременное”, но не “периодическое”.
“Современник” выходил раз в три месяца. И на него принималась предварительная подписка. Итак, журнал?
“Отечественные записки” в 1839 году будут писать о “Современнике”: “журнал чисто альманашный и издававшийся четырьмя альманахами в год” [10]. Это будет сказано с умыслу.
“Враги Пушкина называли беспрестанно «Современник» журналом не спроста, - писал много позднее В.Ф. Одоевский (человек весьма осведомленный), - здесь было указание цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо “Современник” был разрешен как сборник, а не как журнал”.
А Плетнев замечал в 1842 году: “Терпеть не могу, когда «Современник» трактуется журналом, а не книгою” [11].
Журнал, очень точно замечал Никитенко, “непрерывно и последовательно” следует за ходом современного просвещения, стремясь представить его публике возможно полнее, “с обязательствами делать все это на будущее неопределенное время”. Постоянный раздел критики в журнале - необходимость и неизбежность.
В “Современнике” такого раздела не было, как не было и других постоянных разделов, и он не брал на себя обязательств непрерывно и последовательно представлять публике современное просвещение. Он сохранял структурные особенности “сборника” - и в значительной мере вынужденно.
Но Одоевский запамятовал: “журналом” называли “Современник” не только “враги”. Так именовался он в протоколах цензурного комитета и в издательских объявлениях самого Пушкина.
И при всем том, допуская такое именование, ни Уваров, ни Бенкендорф, ни сам Николай I не забывали, что разрешение было дано лишь на “4 тома статей”. В 1837 году Жуковский представил в цензуру объявление о продолжении издания, указав в нем, что подписка на 1837 год была открыта покойным Пушкиным. Главное управление цензуры потребовало возобновить высочайшее разрешение. Резолюция гласила: “Государь позволяет на 37-й год, хотя Пушкин не имел бы права назначать подписки, ибо позволение ему дано было только на 36-й год, как он и сам просил...” [12]
Так на журнальный замысел Пушкина с самого начала легла тень цензурной политики тридцатых годов.
Петербургские “гасители”
21 января 1836 года в Санкт-петербургском цензурном комитете слушали предписание господина министра народного просвещения о разрешении камер-юнкеру титулярному советнику Александру Пушкину издать в нынешнем году четыре тома статей [13].
Петербургский цензурный комитет, слушавший в молчании, как секретарь Осип Васильевич Семенов читает указанное предписание, представлял собою собрание из шести членов. Один из них был уже знакомый нам А. В. Никитенко. Второй, Василий Николаевич Семенов, - добрый приятель Пушкина; они были знакомы еще с лицея (Семенов был моложе, второго выпуска). Он цензуровал “Путешествие в Арзрум”. Но Семенову уже недолго суждено было оставаться в цензурном комитете; в апреле он оставил службу. Петербургские литераторы, любившие его, провожали его большим дружеским обедом; Семенов не остался в долгу и дал ответный обед; Пушкин приехал к нему и сидел долго еще после ухода дам; он был в этот вечер необычайно оживлен и весел [14].
Семенов был настоящим литератором и не очень удачливым цензором. На место его поступил человек сухой, равнодушный и педантичный - А.И. Фрейганг. Затем шел С.С. Куторга, зоолог, минералог, профессор Петербурского университета, и еще три цензора, о которых пойдет речь особо: Павел Иванович Гаевский, Петр Александрович Корсаков и Александр Лукич Крылов. Ко времени заседания последний из них знал уже, что он назначен цензором упомянутого повременного издания: его уведомили об этом письменно 19 января [15]. А 20 января Никитенко записал в дневнике: “Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело” [16].
Познакомимся с личностью этого человека, которая для судьбы “Современника” была во всяком случае не безразлична.
* * *
В августе 1798 года в семье провинциального священника Луки Крылова родился сын, нареченный при крещении Александром.
Когда ребенок стал подрастать, отец отдал его в Смоленскую духовную семинарию, дабы со временем доверить ему приход. Но судьба судила иначе, и в 1817 году девятнадцатилетний семинарист приезжает в Петербург и поступает в Главный педагогический институт на казенный кошт, а с преобразованием института в Императорский Санктпетербургский университет становится соответственно студентом университета, изучает старательно географию и статистику, прилежно посещает лекции всеобщей истории у профессора Раупаха, человека своенравного и вольнодумного, к тому же еще драматурга, писавшего по-немецки пьесы противу деспотизма и крепостного рабства.
Неизвестно, к чему бы все это привело, продлись обучение у Раупаха еще несколько лет. Время было тревожное; шел 1821 год. На посту министра народного просвещения стоял мистик князь Голицын. Уже начались преследования инакомыслящих; сам император, столь либерально начавший свое царствование, уходил все глубже в мистические размышления, доверив просвещение Голицыну, а гражданские дела графу Аракчееву. Тревожное ожидание владело умами; ропот недовольства уже слышался открыто. Университетские профессора с кафедр проповедовали либерализм, словно не чувствуя приближения грозы, вот-вот готовой разразиться над университетом. Между тем гроза приближалась. Ее дальние отзвуки слышались уже в доходивших до Петербурга сведениях о беспримерном разгроме Казанского университета, где было обнаружено вредное христианской религии направление; уже был удален из Петербургского университета профессор Куницын, “обличенный Главным училищ правлением в распространении при преподавании Права Естественного нелепостей и здравому уму противных и потрясающих благосостояние Общественное...” [17] Но все это была лишь прелюдия к неслыханному до сих пор в летописях университетского образования событию.
В конце августа 1821 года исправляющим должность попечителя Петербургского учебного округа стал Дмитрий Павлович Рунич, фанатик и изувер. Лавры Магницкого, героя казанской истории, не давали ему покоя; к тому же борьбу с буйством и беспорядками и водворение основ чистой религиозной нравственности он считал своей священной миссией. Таково было веяние времени, воля императора и министра Голицына, и Рунич отлично это понимал.
В начале сентября некоторым студентам было приказано представить записи лекций профессоров Раупаха, Галича, Германа и адъюнкта Арсеньева. Приказ шел от Рунича. Цель этой ревизии была не совсем ясна; однако основания для беспокойства были. Рассказывали, что преподаватель российской словесности Яков Васильевич Толмачев выпрашивал эти записи у студентов, многозначительно замечая при том, что-де немцев жалеть нечего, а избавиться от них давно пора [18].
Яков Васильевич не ссылался на приказ начальства и, быть может, трудился из личной преданности новому ректору Кавелину, много ему благодетельствовавшему. В позднейших записках своих он обо всем этом не упоминал, скромно отмечая, что когда некоторые профессора “образом своих мыслей и преподавания, несогласным с видами правительства, вынудили начальство исключить их из университета”, ему, Якову Васильевичу, “ведено было, кроме русской словесности, преподавать в университете и философию” [19]. Но как бы то ни было, полученные тем или иным способом тетради студентов попали в руки Рунича. В числе этих студентов был и Александр Крылов, лишившийся своих записей лекций Раупаха [20].
Знал ли Крылов о том, что произошло дальше? Несомненно, знал, хотя, быть может, и не все. 3, 4 и 7 ноября 1821 года, запертый, как и другие, в своей комнате, он ожидал в тревоге и растерянности окончания событий. До студенческих помещений, крайние из которых были отделены от залы заседаний камерой и коридором, доносился шум и крики девятичасовых собраний. Собрания велись тайно, но тайна оказывалась секретом полишинеля. Рунич читал выписки из лекций, потрясал тетрадями, в том числе и его, Крылова, конспектом, и с гримасами и оскорблениями, впадая в истерию, предлагал присутствующим убедиться, сколь дурно они пахнут [21].
Он обвинял профессоров в потрясении основ гражданского и нравственного бытия, в “робеспьеризме и маратизме”, в заговоре, наконец, и в государственной измене! Профессор Раупах, писал он в своем официальном отчете, не признает священного писания, возводя его к языческим мифам; его “богохульные умозрения, догадки и заключения” “быв непосредственно направлены к унижению откровенной Религии, косвенно устремляются <...> и против властей, от бога установленнных” [22].
Профессор Герман “из Статистики, науки весьма простой, имеющей определительные границы, составил смесь из собственно так называемой Статистики с умствованиями о Религии, Праве Естественном и Политической экономии на тех же самых началах новейшей разрушительной философии, в Статистике же России позволяет себе такие заключения на счет Церкви, образа правления и Государственных постановлений вообще, что без очевидных доказательств и поверить мудрено было бы...” [23].
Этих формул мог тогда и не знать студент Александр Крылов. Он мог не знать и о деталях инквизиционного допроса, которому подвергли четырех обвиняемых; о том, что его учитель Раупах ни на йоту не отступил перед гонителями просвещения, что профессор Галич, в полном душевном смятении, просил грозный ареопаг “не помянуть грехов юности и неведения”; он мог не знать и о том, что среди двадцати профессоров, бывших свидетелями и невольными участниками судилища, оказалось несколько человек, которые осмелились, хотя и робко, вступиться за осужденных и предпочли стать лучше обвиняемыми, чем обвинителями. Крылов не знал этого и многого другого, о чем позднее рассказал в своей исторической записке профессор Плисов и что донесено до нашего времени сухими строками официальных документов. Но один вид профессоров, перенесших девяти-, а то и одиннадцатичасовую моральную пытку, был уже достаточно красноречив: было известно, например, что профессор Соловьев, один из подававших “особые мнения”, в полном расстройстве душевных сил после заседания, заблудился и, доставленный домой матросами, “впал в чрезвычайное расслабление телесное и душевное”.
Наконец, все было кончено. Петербургский университет как гнездо разврата и крамолы более не существовал. Профессора, рассеивавшие заразу, уволены. Раупах уехал за границу. Ушли и некоторые из тех, кто не хотел участвовать в травле. Оставшиеся места были разделены теми, кто “заслуживал полную доверенность начальства” “нравственными качествами и христианским примерным расположением”, “благонамеренными свойствами, преданностью и ревностью”, вне зависимости от педагогических способностей и знания предмета [24].
Вслед за тем был произведен “разбор” студентов. 18 марта 1822 года на этот счет было издано высочайшее повеление. Рунич и сам прекрасно понимал, что “опасные учения” профессоров могут заразить молодые умы, и с тем большим рачением стремился уволить “безнадежных”. В “табель о разборе” заносилось и засвидетельствование директора о благонадежности к учительскому званию по нравственным качествам и “аттестация инспектора о нравственных свойствах по замечаниям в продолжение целого курса”.
В этой табели мы находим и интересующее нас имя. Студент Крылов, факультета историко-филологического, заслуживает высшие оценки: “благонадежен”, “примерных нравственных свойств”. Он показывает “отлично хорошие” успехи в российской истории, очень хорошие - в всеобщей истории, статистике, российской словесности. Его имя открывает графу факультета. Он причислен к группе “А” и оставляется в университете до окончания полного курса [25].
Итак, зловредные учения профессора Раупаха не поколебали чистой нравственности Крылова, и чтение высшим начальством его конспектов не отразилось на его судьбе. Но напрасно было бы думать, что события двух последних лет прошли ему даром! Рунич не выпускал из-под своего надзора оставленных в университете студентов и вменил в обязанность преподавателям особо следить, чтобы сведения в науках имели должное направление, а впечатления от разрушительных теорий сколько возможно истреблялись [26]. По новой инструкции в преподавании истории и философии надлежало руководствоваться Ветхим Заветом и клерикальными писателями; успехи России в просвещении доказывать деятельностью Владимира Мономаха и при всяком случае внушать студентам отвращение от гибельного материализма. Первая добродетель гражданина есть покорность, внушала инструкция, - покорность и неусыпное наблюдение за поведением студентов, для чего рекомендовано было сообщение с полицией [27].
Результаты не замедлили сказаться. Поколение университетских преподавателей, выросшее в начале 1820-х годов, до конца жизни не забывало уроков, преподанных Руничем.
“Молодежь эта болезненно поражена была разгромом 1821 года в самой весне жизни, и в некоторых из среды ее цвет всякого развития побит еще в почках; большинство ее было потрясено и пришибено этим разгромом и всем вслед за тем виденным и испытанным до такой степени, что никогда в жизни, даже и при благоприятной перемене обстоятельств, не могло уже очнуться, чтобы думать не по заданной программе и действовать не по чужой указке”.Слова эти принадлежат младшему современнику “поколения 1821 года”, так писал о нем профессор В.В. Григорьев, заставший его студентом, в начале 1830-х годов [28]. В феврале 1823 года Александр Крылов окончил полный курс наук, благополучно удовлетворив всем требованиям университетского начальства, удостоился золотой медали и был оставлен в университете для исправления должности магистра по географии, С этого времени он начинает довольно быстро двигаться по служебной лестнице. Он преподает греческий и латинский язык, историю и географию. Древнюю и среднюю историю он читает по учебникам Кайданова и Коха, а после и “по собственным запискам”, которые были, к слову сказать, не чем иным, как парафразом тех же Кайданова и Коха. Он издал несколько книг по истории, географии и статистике, - книг, мало кем замеченных в ученом мире, кроме разве двух-трех рецензентов, которым пришлось проявить немало изобретательности, чтобы что-то о них сказать [29].В 1835 году произошла реорганизация университета. “Поколение двадцать первого года” завело его в тупик. Строить преподавание только на одной благонамеренности дальше было решительно невозможно.
Многие из прежних профессоров оказываются уволенными; в их число попадает и Крылов. На его место приходят новые люди: кандидат В.С. Порошин, занявший кафедру политической экономии и статистики и через несколько лет ставший любимцев студентов, и блестящий молодой историк М.С. Куторга.
Александра же Лукича Крылова ждало совсем иное поприще.
Еще в 1828 году он, служа в Санктпетербургской гимназии, отправляет скромную должность секретаря Санкт-петербургского цензурного комитета. И далее, уже будучи преподавателем, а после и ординарным профессором университета, он сохраняет связи с комитетом: в 1830 году он уже цензор, а в 1833 году за усердную службу на этом поприще награждается годовым окладом жалованья. Когда 1 января 1836 года он “остается за реформою” т. е. увольняется из университета, за ним сохраняется должность цензора [30].
Так - не историком, не статистиком, - цензором вошел Крылов в историю русской культуры, и вошел, казалось, для того, чтобы оправдать слова Радищева, сказанные задолго до начала его деятельности: “Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещелии сделать вред”. Его непомерному усердию обязан был Пушкин многими затруднениями своими на журнальном поприще. Он пережил Пушкина и в 40-е годы упрочил за собою славу самого трусливого и придирчивого петербургского цензора, “одно имя которого страшно для литературы” [31]. В отзывах о Крылове оказывались единодушны все - от Булгарина до Некрасова, через восемь лет после его смерти вспоминавшего о “бестолковости и трусости” “покойного Лукича Крылова” [32].
“Бестолковость и трусость” - на этом сходятся все, кто сталкивался когда-либо с этим “несмысленным урядником благочиния”. Он “то пропускал такие фразы, которые после того приходилось смягчать - страха ради иудейска, то зачеркивал совершенно невинные вещи” [33], он медлил, колебался и бесконечно долго держал рукописи, не решаясь подписать одобрение [34]. В 1841 году произошел с ним крупный скандал, о котором долго помнили в цензуре: в “Библиотеке для чтения” с одобрения его и Ольдекопа была напечатана статья “Светящиеся червячки”, где Сенковский рискованно и зло посмеялся над печатной программой “с-го дворянского собрания”, учрежденного “для соединения лиц обоего пола”. В брачных играх светящихся червячков неугомонный фельетонист усмотрел исполнение “программы почтенного собрания”. Этот номер журнала попал в руки Бенкендорфа и вызвал страшный гнев. Уваров заступился за цензора, которому грозило отрешение от должности. “Я считаю долгом присовокупить, - доносил он, - что как Крылов, так и Ольдекоп принадлежат к числу благонадежнейших цензоров и всегда заслуживали особенное мое одобрение, отличаясь даже чрезмерно, в иных случаях излишнею осторожностию” [35].
Слишком много нужно было дипломатического умения, чтобы лавировать безопасно в лабиринтах николаевской цензурной политики. Крылов не обладал этим умением и мог предложить начальству лишь посредственность и благонамеренность. Боязнь служебных неприятностей, которые подстерегали на каждом шагу, не оставляла его ни на минуту. В нем говорил только один голос - инстинкт самосохранения, - но говорил громко и властно. Следуя ему, Крылов становился одним из винтиков огромной машины, уничтожающей просвещение, и вносил в это дело свою посильную лепту, не колеблясь и не размышляя.
На этом можно было бы окончить биографию Крылова. Но с его именем связан рассказ, который венчает его психологический портрет. Он имеет уже косвенное отношение к личности самого Крылова и был бы похож на анекдот, если бы не совершенная его достоверность. По странной иронии судьбы, главное действующее лицо в нем тоже Крылов - но не Александр Лукич, а знаменитый его однофамилец.
Рассказ этот передал Николай Иванович Иваницкий, малозначительный литератор 40-х годов, со слов Никитенко.
“В 1836 году, в последний год жизни Пушкина, - повествует Иваницкий, - у Жуковского были субботы. Однажды в субботу сидели у него <И. А.> Крылов, Краевский и еще кто-то. Вдруг входит Пушкин, взбешенный ужасно.- Что за причина? - спрашивают все.
А вот причина: цензор Крылов не хочет пропустить в стихотворении Пушкина - Пир Петра Великого - стихов:
чудотворца-исполина чернобровая жена...
Пошли толки о цензорах. Жуковский, со свойственным ему детским поэтическим простодушием, сказал: «Странно, как это затрудняются цензоры! Устав им дан: ну что подходит под какое-нибудь правило - не пропускай; тут в том только и труд: прикладывать правила и смотреть».
- «Какой ты чудак! - сказал ему Крылов, - ну, слушай. Положим, поставили меня сторожем к этой зале и не велели пропускать в дверь плешивых. Идешь ты (Жуковский плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя. Меня отколотили палками - зачем пропустил плешивого.
Я отвечаю: «Да ведь Жуковский не плешив: у него здесь (показывая на виски) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то (показывая на маковку) нет».
Ну хорошо, думаю себе, теперь-то уж я буду знать. Опять идешь ты; я не пропустил. Меня опять отколотили палками. «За что?»
- «А как ты смел не пропустить Жуковского».
- «Да ведь он плешив: у него здесь (показывая на темя) нет волос».
- «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски) есть».
- Черт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на каком волоске остановиться».
Жуковский так был поражен этой простой истиной, что не знал, что отвечать, и замолчал” [37].
Рассуждения Крылова запомнились ему, и он внес их в записную книжку [38].Этот лукавый рассказ, эта ненаписанная басня осталась едва ли не самой проницательной, тонкой и умной характеристикой условий службы николаевского цензора, часто достойного осуждения, но иногда - сожаления. Пушкину, впрочем, от этого было не легче.
* * *
Пушкин узнал о разрешении “Современника” за несколько дней до заседания 21 января.
14 числа Уварову было объявлено письменно высочайшее повеление [39], 17-го - предписание Уварова, повторяющее августейший текст, было получено в цензурном комитете [40]. А 18 или 19 января Пушкин уже пишет Дондукову-Корсакову письмо, содержание которого известно нам лишь в самых общих чертах.
Для Пушкина уже очевидно, что на покровительство Бенкендорфа рассчитывать нечего и что отныне “Современник” отдается цензуре в безграничную власть. Но он еще не совсем ясно представляет себе, сколь слаженно работает цензурный механизм, к какому единому знаменателю приведены индивидуальные воли всех цензоров - от самого малого до самого большого. Впрочем, быть может, он понимал теперь и это - и не хотел лишь упускать ни малейшей возможности обезопасить будущий журнал от прямых цензорских придирок.
Как бы то ни было, он пишет Дондукову письмо, уведомляя его о своих столкновениях с цензурным комитетом.
Дондуков ответил очень корректным письмом 19 января. Он сообщил о назначении Крылова цензором “Современника” и выражал свое крайнее сожаление по поводу “неудовольствий”, причиненных Пушкину цензурным комитетом, неудовольствий, ему, Дондукову, “еще и доселе неизвестных”. Он мягко упрекал Пушкина в том, что последний не “почтил” его “уведомлением о них в свое время”, и уверял, что сочтет за особенное удовольствие “отклонить все препятствия к исполнению таковых требований, если они будут сообразны с правилами, для цензурных комитетов изданными” [41].
Так начиналась дипломатическая игра. Как явствует из ответа Дондукова, Пушкин не сказал прямо, какие “неудовольствия” он имел в виду, и Дондуков потому принял вид вежливого недоумения. А имел в виду Пушкин историю с печатанием “Анджело” и “Поэм и повестей”, о которой Дондуков не только знал, но и сам был вольным или невольным ее участником. «Неудовольствия» Пушкина в связи с «Анджело» были еще очень свежи в памяти причастных к ним лиц, - потому-то Никитенко и отказывался стать цензором Пушкина и, конечно, не скрыл своих резонов от Дондукова, с которым был хорош и даже дружен. Таким образом, письмо Дондукова имело второй план, который выступил на поверх-ность в заключительных строках его письма: они давали понять, что председатель цензурного комитета не намерен выходить за пределы своих официальных обязанностей.
При всем том Допдуков предлагал Пушкину обра-щаться в случае затруднений лично к нему, и этим пренебрегать было нельзя. Дондуков мог ускорить своей властью рассмотрение статей, а в иных случаях - разрешить сомнения цензоров по поводу отдельных слов и строк. Это было важно для автора и в особенности для журналиста. Мелкие исключения обессмысливали текст «Анджело» и «Сказки о золотом петушке», о чем Пушкин тоже никак забыть не мог. Он принял к сведению предложение Дондукова и не мог не принять, потому что столкновения с Крыловым начались у него с первых же дней работы над «Современником».
«Хроника русского».
Кто из нас не писал писем? Родным, знакомым, друзьям; с извещением о делах, намерениях, болезнях, радостях и других происшествиях нашей частной жизни. Конечно, такие письма писались и прежде, но не о них пойдет речь. В первые десятилетия XIX века писались письма, исполнявшие роль бесцензурных газет и свободной публицистики. Эти письма были, как правило, адресованы определенному лицу, но подразумевалось - а иногда и прямо указывалось - что их будет читать не только тот, кому они написаны, но целый круг лиц, связанных между собою литературными узами и общественными интересами. Такова, например, переписка участников арзамасского братства.
Письма Пушкина, М. Ф. Орлова, Вяземского, Николая и Александра Тургеневых, Дашкова были по существу не двусторонней перепиской корреспондента и адресата, а перепиской каждого из арзамасцев со всеми арзамасцами. После 1817 года, когда волею судьбы многие из них оказались на службе в разных городах России и Западной Европы, письмо стало основной формой их взаимного общения. Письма посылались в Петербург, читались в кругу арзамасцев, а затем отправлялись дальше, либо в оригинале либо в копии, в Москву, Кишинев, Константинополь, Варшаву... Письма арзамасцев включали огромный поток информации - политической, литературной, театральной, бытовой - в подавляющем большинстве случаев запретной для ведомственных русских газет. Во многих из этих писем обсуждались животрепещущие, злободневные вопросы внутренней и внешней политики.
Особым блеском отличался эпистолярный слог Вяземского и А.И. Тургенева. Для последнего письмо стало всепоглощающей страстью, тем постоянным видом литературной деятельности, благодаря которой он прочно вошел в историю русской словесности. Находясь в полуопальном положении после восстания декабристов, А.И. Тургенев на протяжении двух десятилетий, с 1825 по 1845 год, длительно пребывает во Франции, Англии. Италии, Швейцарии, Германии. Любознательный путешественник, он в непрерывной погоне за новыми впечатлениями: руины времен Римской империи и средневековья, готические соборы и скромные жилища знаменитых людей прошедших веков, парижские благотворительные заведения и колоссальные лондонские доки, немецкие университеты и архивы Ватикана, вольный воздух затерянной в горах родины Вильгельма Телля, успехи ремесел и промышленности, последние научные открытия, политические дебаты в парламентах, народные гуляния и, наконец, люди, бесконечный поток людей, с которыми он торопится познакомиться. И какие люди! Гете и Вальтер Скотт, Стендаль и Мериме, Гюго и Бальзак, Ламартин и Шатобриан... Тургенев ведет дневник, обо всем пишет пространные письма друзьям на родину. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год...
Клокочущие новостями западноевропейской жизни письма А. И. Тургенева жадно читались и обсуждались в пушкинском кругу. 29 декабря 1835 года Вяземский писал ему:
“Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братью на свой олимпический чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc. etc. Все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!»” [42]Александр Иванович жил в это время во французской столице и сообщал приятелям злободневные парижские новости. По занесенным снегом улицам Петербурга Пушкин и его друзья торопились субботними вечерами навестить Жуковского, послушать в его гостеприимной гостиной письма пилигрима Тургенева. Живительным оазисом был “олимпический чердак” Жуковского. Кстати, почему Вяземский так именует квартиру Жуковского? То ли “остряк замысловатый” (так Пушкин называл Вяземского) хотел подчеркнуть, что у Жуковского собирался цвет русской словесности, писатели-олимпийцы отечественного Парнаса, то ли иронизировал над придворной карьерой Жуковского (тот был воспитателем наследника престола), намекая на то, что его жилище помещалось в Шепелевском дворце, непосредственно примыкавшем к Зимнему дворцу и считавшемся частью царской резиденции. Скорее всего, и то и другое: смысловая двуплановость часто встречается в письмах Вяземского. Как бы там ни было, в двух шагах от царских покоев, в уютной квартире Жуковского по субботам читались письма Тургенева, наполненные до краев политическими и литературными новостями.Этот “сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего” был сущей находкой для Пушкина-журналиста. 19 января 1836 года Вяземский писал Тургеневу в Париж:
“Пушкину дано разрешение выдавать журнал, род «Quarterly Review». Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше; только с тем, что ты не последуешь русскому обычаю вышереченному, то есть «тех же щей, да пожиже»; нет, «тех же щей, да побольше», потому что мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя” [43].В начале марта заканчивается подбор статей для первого тома “Современника”. Вяземский дает писцу переписать каллиграфическим почерком последние февральские “донесения” Александра Ивановича; им присваивается название “Париж (Хроника русского): с другими материалами они отсылаются в цензуру. Внимательно и придирчиво читает “Хронику русского” цензор Крылов, делает отметки на полях и 23 марта письменно докладывает Петербургскому цензурному комитету.“Находя в оной, наряду со сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещают исключительно в повременных изданиях политических, как-то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах министерства, спорах об уменьшении процентов и т.п., я почитаю сам не вправе допустить к напечатанию такого рода письмо вполне, без разрешения начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, имею честь представить оные на благоусмотрение Комитета” [44].Неофициально о колебаниях цензора Пушкин узнал еще в середине марта:“...бедный Тургенев! - писал в эти дни Пушкин Вяземскому, - все политические комеражи <т. е. пересуды > его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны; остаются одни православные буквы наших русских католичек да дипломаток. Однако я хочу обратиться к Бенкендорфу - не заступится ли он?” [45]И сразу же Пушкин пишет письмо (оно датировано 18 марта) председателю цензурного комитета М.А. Дондукову-Корсакову:“Ценсурный комитет не мог пропустить письма из Парижа как статью, содержащую политические известия: для разрешения оной, позволите ли, милостивый государь, обратиться мне к гр<афу> Бенкендорфу? или прикажете предоставить сие комитету?” [46]Слова о Бенкендорфе, по всей вероятности, - тактический маневр. По установленному порядку Пушкин - равно как и цензурный комитет - в подобных случаях должен был обращаться не к Бенкендорфу, а в Главное управление цензуры, председателем которого был Уваров.По-видимому, зная о трениях между III Отделением и Главным управлением цензуры, Пушкин стремился найти заступничество у Бенкендорфа.
Как и следовало ожидать, Дондуков-Корсаков не нарушил существовавшей субординации. 25 марта он писал в Главное управление цензуры, что Комитет, “основываясь на том, что в журнале “Современник” должны быть помещаемы статьи чисто литературные, признал себя не вправе дозволить г. цензору Крылову одобрить к напечатанию в оном предметы могущие подать повод к политическим суждениям” и “по желанию издателя” предоставил Дондукову-Корсакову испросить разрешение Главного управления цензуры [47]. Можно думать, что в частном порядке Дондуков-Корсаков сообщил Уварову об угрозе Пушкина действовать через Бенкендорфа.
Тактический маневр Пушкина был как нельзя кстати: враждебно относившийся к нему Уваров в эти дни был особенно раздражен против поэта. Ведь как раз в марте профессор древней словесности Казанского университета Альфонс Жан Батист Жобар прислал Уварову свой французский перевод стихотворного памфлета Пушкина “На выздоровление Лукулла” с издевательским письмом. Угроза Пушкина обратиться к Бенкендорфу должна была несколько охладить Уварова - и, по всей вероятности, охладила. 7 апреля Дондуков-Корсаков объявил, что министр словесно разрешил “Хронику русского”, за исключением отмеченных карандашом мест [48].
По-видимому, изъятия, произведенные Крыловым, были частично восстановлены по разрешению Уварова (цензурный экземпляр статьи не сохранился); в печатном тексте имена Фиески и министров напечатаны полностью. Однако опущен большой отрывок письма, содержащий описание процесса над Фиески и его сообщниками, и некоторые другие места: о русском министерстве финансов, о демократии, идущей к власти в Америке и странах Западной Европы [49].
Кто был Фиески? Почему описание суда над ним встревожило Крылова и Уварова?
Сорокапятилетний Джузеппе Фиески, бывший солдат неаполитанской армии Мюрата, ярый бонапартист, организовал в 1835 году покушение на французского короля Луи Филиппа. Связав 24 ружейных ствола, Фиески и другие участники заговора устроили “адскую машину”. Многие приближенные короля были ранены и убиты; сам Луи Филипп уцелел.
Покушение на царя считалось самым тяжким преступлением при самодержавии Романовых; вспомним, что за умысел цареубийства были повешены Рылеев, Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин. Пристойно ли было описывать на страницах “Современника” суд над французскими кандидатами в цареубийцы?
Прочтем же теперь, сто тридцать лет спустя, то, что запретила цензура в письме Тургенева, прочтем, как описал Александр Иванович судебный процесс над Фиески:
“15 февраля... к половине 12-го стоял уже опять у входа в камеру перов, но передо мною уже более ста человек, ожидавших с билетами впуска в камеру. В 1 1/2 часу ввели туда подсудимых: Фиески в опрятном костюме воскресного данди и едва вошел в камеру, как начал смотреть вверх, в трибуну, где сидела Нина Ласав, и с веселою улыбкою с ней перемигиваться. За ним втащили и усадили в кресла истощенного постом и болезнию Морея; потом Пелена, в черном фраке, опрятно одетого; Буаро - мальчишку Парижа, и равнодушного, уже полуоправданного Бешера.На глазах читателя меняется отношение Тургенева к главному заговорщику: если вначале мы улавливаем нотки недоброжелательства и даже неприязни, то постепенно нарастает его невольное сочувствие мужественному поведению Фиески перед лицом смерти. Цензура изъяла эти страницы: в печатном тексте остались лишь беглые упоминания о процессе и первоначальная, довольно сдержанная характеристика Фиески. Непристойно было восхищаться тем, кто покушался на жизнь помазанника божьего.Через пять минут мы услышали: “Суд идет!” - и началась перекличка перов; но все внимание обращено на главных подсудимых. Фиеске подают со всех сторон записки и белые листы, на коих он пишет то, что ему приходит в голову; под своими портретами, на кои смотрит приятно улыбаясь, пишет имя свое и всякую всячину. Во многих пунктах залы и трибун пишут его портреты: уверяют, что даже один из перов: Даржан списал сам портрет его.
Во все продолжение защиты Буаро его адвокатом - Фиески, коего имя чаще всех повторяется, не обращает никакого внимания на речь адвоката. Даже когда Шест-Дест-Анж, блистательный из адвокатов его, начал уж свой панихидный панегирик Фиески, он все еще занят надписями на портретах, своими аутографами; иногда записывает для памяти в записной книжке своей; болтает с адвокатами; беспрестанно нюхает табак и любуется своей миниятурной табакеркой. Незаметно в выражении лица - будущее судьбы его. Один Пепен смутен; Морей недвижим в креслах. Шест-Дест-Анж говорит с чувством - уступая требованию Фиески; коему, как видно, хотелось панегирика.
Адвокат вполне удовлетворил его желанию и в конце искусно поставил на вид перам, что, если они не заплатят даром жизни за откровения Фиески, то останутся у него в долгу <...> Есть ли бы адвокат имел хотя малейшую надежду на прощение, то, конечно, обязанностию его было бы делать все усилия, клепать других, извинять его чем и как хочет; одним словом, делать все, что делал бы сам обвиняемый для своего оправдания; но с полным убеждением, что прощение невозможно, - мне кажется, не надлежало бы возбуждать, во вред нравственности, участия или почти энтузиазма к преступнику, какими бы, впрочем, качествами ни был он прежде известен. Еще менее генерал-адвокат Мартен ди Норд мог за какой-то поступок Фиески, во время суда, назвать его поведение почтенным!
После адвоката дали роздых на четверть часа и потом Фиески начал сам опять рассматривать жизнь свою, во всем виниться, и разыграл предание себя на волю божию столь искусно, что одним словом и жестам прошиб в нас слезы. Мы с удивлением друг на друга посмотрели и удивились впечатлению, на нас произведенному его словами, его жестом, а я был с англичанами и с военными! Были величественные моменты и слова импровизированного красноречия. Характеристика Морея, Пепена и Буаро верная, колкая, гибельная для двух первых, но в то же время - он просил сохранить им жизнь! - Самые повторения, ошибки грубые против языка, кои в иное время могли бы рассмешить, не вредили силе впечатлений. За Морея, который хотел погубить его машиной и коего он сам губит своими показаниями, он умолял как за благодетеля, который кормил, призирал его...
«Я смело пойду на эшафот, не опущу вниз головы, поднимаясь на место казни; я скажу: ну что ж, стреляйте; я скажу богу: я жду ваших приказаний. Я кончил мою политическую исповедь; перед тем как умереть, я исповедуюсь по законам религии. Мне нечего больше добавить».
Это были последние слова его и эти слова как-то облегчили душу мою. - Ни на минуту Фиески не ослабел ни в голосе, ни в движении руки, указывая иногда на свои раны в голове, из коих вынуто более 20 костей!
Невыразимо действие, которое он произвел на слушателей: все молчало. Фиески - не Ласенер <Ласенер - уголовный преступник, присужденный к смертной казни в то же время в Париже>. Все во мне волновалось; в первый раз я видел и слушал Фиески с каким-то отвращением к нему: вчера я нашел в сердце что-то иное к нему, что-то похожее на жалость, на християнское милосердие; и результат для меня всех дум моих - было новое убеждение, что загадка жизни и смерти, нравственности и оправдания перед богом - разгадывается одним християнством и словом на кресте: «днесь со мною будеши...» Между тем сегодня, в сию минуту решается участь Фиески и его сообщников; а завтра он будет уже перед другим судом!..
16 февраля... Сегодня узнал я о приговоре Фиески, Морея и Пепена - в минуту, когда, вероятно, совершилась казнь их. Их провезли на новое место казни, в открытой фуре: Фиески босоногий, в одной рубашке и покрыт черным покрывалом: это обряд для цареубийц. Прежде отсекали им руку, так, как и Лувелю. С 1830 года это отменено.
Фиески обедал вчера в последний раз с своею Ниною! Не знаю еще подробностей его последних минут: но уверяют, что он сам потребовал священника.
Вчера не попал в камеру перов; хотя велено было впускать всех ввечеру, когда президент прочел приговор в собрании перов. Сказывают, что во время их делибе-рации в другом апартаменте, полусвет слабоосвещенной, но полной залы собрания наводил какой-то полутрепет на публику. Даже перекличка перов была тихая и ответы едва слышны.
17 февраля. Вчера казнь не совершилась: публика обманулась в ожидании. Пепен объявил, что намерен сделать важные откровения, и генерал-прокурор явился к нему для выслушания оных; но в девять часов утра надели на трех - камзол (с рукавами) - осужденных на смерть. Морей сохранил свой характер твердости; Пепен прощался с женою и с четырьмя малолетними детьми; Фиески провел вечер
15-го февраля, когда камера решала судьбу его, с Ниной своей, обедал с нею и сказал ей: «Ах, ах, моя дорогая, меня сейч-ас разыгрывают в лотерею». Она вышивала его вензель на платках его; он запретил ей плакать и расстраивать твердость духа его. Вчера разбудили его от крепкого сна. Нина говорит, что, узнав о приговоре, он помешался в уме; другие уверяют - и это вероятнее, что он умолял даже на коленях, чтобы на него не надевали камзола и позволили итти пешком на место казни; но во всем отказали ему. Как видно, ему хотелось еще показать свою твердость духа и блеснуть ею перед толпами; но наконец, как слышно, священник образумил его, представив ему, что и смерть праведного была сопровождена стыдом и поношением” [50].
История с прохождением в цензуре “Хроники русского” затрагивает один из крайне наболевших вопросов русской журналистики того времени: является ли подобная хроника политической или литературной. В черновом письме к цензору Крылову Пушкин писал:
“Князь М. А. Корсаков писал мне, что «Письма из Парижа» будут рассмотрены в высшем комитете. Препровождаю их к Вам; одно замечание: «Письма из Парижа» Тургенева печатаются в «М<осковском> наблюдателе» не как статьи политические, а литературные” [51].Это замечание Пушкина было исключительно важным, ибо указывало на прецедент: “Отрывки из заграничной переписки” Тургенева были напечатаны в 1835 году в журнале “Московский наблюдатель”. Гибридный жанр литературно-общественной хроники давал возможность отвергать нарекания цензуры в нарушении программы “Современника”: характер писем Тургенева позволял (конечно, при соответствующем желании!) отнести их к “литературным” и миновать, таким образом, цензурные межевые столбы.Учитывая эти цензурные тонкости и затруднения с опубликованием писем Тургенева в первом номере “Современника”, Вяземский писал ему 8 апреля 1836 года:
“Разумеется, пуще всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политика, то есть газетная политика, не годится, или умеренно, потому что дозволен только журнал литературный, но историческую политику милости просим” [52].Такое требование вызвало недоумение Тургенева, понимавшего зыбкость грани между политикой и литературой в современной жизни, и в особенности в жизни Западной Европы. Живя в Париже, он не мог быть искушен в тонкостях цензурной казуистики и возразил Вяземскому столь же логично, как и наивно:“Хотя я давно знал, что наша журналистика, как девица-красавица, во селе, селе Покровском «без политики росла», но как-то странно будет, если Пушкин совершенно исключит этот элемент из своего «Современника»: литература без политики не будет уже современною нам литературою, и я думаю, что и в этом случае “est modus in rebus” *. Биографическая статья о Тьере, прием в Академию Сальванди, академическое торжество Гизо: все это, хотя и прикосновенно политике, может, однако ж, войти в состав петербургского Review.Цензор ГаевскийВ стихах “На выздоровление Лукулла” гораздо больше политики, чем в моих невинных донесениях о Фиески” [53].
* Есть мера а вещах (лат.)Слухи о цензурных тяготах Пушкина доходили до Москвы. 7 апреля И.И. Дмитриев сообщал литератору и журналисту П.П. Свиньину: “...пишут из Петербурга к одному из здешних журналистов, что Пушкин, еще не выдав первой книжки, уже надоелся в жарких состязаниях с ценсорами, и думают, что недостанет его терпения на годичное издание «Современника»” [54]. Но тернистый путь журнальной работы еще только начинался для Пушкина, хотя слухи были верны, а терпение иссякало. 6 апреля он сел за письмо Дондукову-Корсакову. Письмо не давалось; Пушкин писал, многократно зачеркивая, вставляя, опять зачеркивая... С таким трудом пишутся любовные письма, полные намеков, недосказанностей, дипломатии чувств.
Здесь была иная дипломатия, не менее трудная, но не сулившая никакой надежды.
Это второе известное нам обращение Пушкина к Дондукову на протяжении одного месяца. Первое, как мы помним, закончилось полным неуспехом. Все же Пушкин делает новую попытку - и не без тайной мысли. Он маскирует эту мысль почтительностью тона и многочисленными оговорками, предупреждающими возможные возражения. Он благодарит председателя комитета за “благосклонное снисхождение”, с которым были разрешены все статьи для его журнала. Он не собирается жаловаться и на “излишнюю мнительность” цензора Крылова, ибо знает, “что на нем лежит ответственность, может быть, не ограниченная Цензурным Уставом”. Он лишь обращает внимание князя на то, что статьи “Современника” постоянно задерживаются, потому что Крылов считает необходимым каждую из них представлять в комитет, подвергая таким образом двойной цензуре и вынуждая из'дателя поминутно беспокоить князя запросами по поводам мелким и ничтожным.
Вряд ли можно было ожидать, что письмо Пушкина встретит сочувствие у председателя комитета. Дело в том, что к 6 апреля Крылов представлял в комитет три “статьи”: “Хронику русского”, о которой шла речь выше. статью Гоголя “Петербург и Москва (из записок дорожного)”, рассмотренную в заседании 20 марта, и повесть Гоголя “Коляска” (3 марта). Во всех трех случаях комитет согласился с изменениями, предложенными Крыловым, и благодарить Дондукова как будто было не за что. Правда, у Пушкина были и другие столкновения с цензором, не отразившиеся в документах комитета, - хотя бы по поводу строк в “Пире Петра Первого”, но здесь, по-видимому, Крылов уступил сам.
Строки о “двойной цензуре” и задержках издания председатель отчеркнул карандашом по полю и поставил значок “NB”.
“Осмеливаюсь просить Ваше сиятельство, - так заканчивал Пушкин, - о дозволении выбрать себе еще одного цензора; дабы таким образом вдвое ускорить рассматривание моего журнала, который без того остановится и упадет” [55].
В этом “выбрать” заключался смысл просьбы. Выбор был невелик - из числа шести членов комитета. Конечно, Пушкин предпочел бы обратиться к Сербиновичу, цензуровавшему когда-то “Литературную газету”, или к В.Н. Семенову. Но Сербиновича давно уже не было в комитете, а Семенов уходил: 14 апреля он последний раз присутствует на заседании. Для Пушкина оставался только один возможный цензор, и этот единственный был Петр Александрович Корсаков, о котором еще пойдет речь.
Дондуков ответил 10 апреля: “Согласно желанию Вашему, дабы ускорить рассматривание издаваемого Вами журнала, я вместе с сим делаю распоряжение о назначении для этого предмета...”
Письмо было предельно вежливым и даже любезным. Князь был “рад сему случаю доказать” милостивому государю Александру Сергеевичу на опыте свою “всегдашнюю... готовность содействовать... скорейшему изданию журнала и сочинений” его. Поэтому он назначал в помощь Крылову коллежского советника Гаевского и в тот же день переслал письмо Пушкина секретарю комитета, предложив ему поставить в известность о назначении обоих цензоров - и старого и нового. 11 апреля решение Дондукова было закреплено официальными письмами Крылову и Гаевскому [56].
Итак, о “выборе” цензора не могло быть и речи. Цензор назначался, в порядке особого исключения и уважения к “отличному нашему сочинителю”. Оставалось благодарить, ибо совершившееся было необратимо. Павел Иванович Гаевский должен был приступить к исполнению своих обязанностей.
Знал ли Дондуков-Корсаков, что Гаевский - один из самых придирчивых службистов во вверенном ему комитете? Было ли его вежливое письмо Пушкину холодно рассчитанным ударом, а готовность “содействовать скорейшему изданию журнала” - затаенной насмешкой? Или он, не вникая в административные и психологические тонкости, избрал цензора, по его мнению, более способного или менее загруженного? Внутренние побуждения председателя комитета, вероятно, останутся скрытыми от нас. Мы располагаем только одним свидетельством - записью в дневнике Никитенко, осведомленного, критически мыслящего и в то же время доверенного лица Дондукова-Корсакова.
“Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался” [57].Качества Гаевского были известны Никитенко. Он говорит о них как об общеизвестной вещи. Значит, о них знали и другие коллеги его по Санктпетербургскому цензурному комитету, и трудно представить себе, чтобы Дондуков оставался в неведении. Письмо Дондукова уже не застало Пушкина в Петербурге. В эти дни ему было и не до письма. Умирала Надежда Осиповна. 8 апреля тронулись траурные дроги. Пушкин вез тело матери в Михайловское, к месту последнего успокоения [58].Накануне смерти и похорон матери он должен был оставить все дела, оставить «Современник», уже лежащий в типографии, под присмотр Плетнева и Вяземского.
Трудно предположить, что 7 или 8 апреля он знал уже о решении Дондукова, да вряд ли оно и созрело у председателя комитета ранее десятого числа.
Тогда запись в дневнике Никитенко, датированная 14 апреля, загадочна. Пушкин был в Михайловском, и «раскаиваться» в своей опрометчивости не мог. Он вернулся в Петербург только 16 числа [59].
Вероятно, дата записи поставлена ошибочно, - и тогда перед нами один из многих случаев хронологической путаницы, которую допускала С.А. Никитенко, готовя к печати и редактируя дневники своего отца [60].
Что же касается реакции Пушкина на ответ Дондукова по возвращении в Петербург, то свидетельство Никитенко весьма вероятно по целому ряду причин и в первую очередь потому, что Гаевский не был для Пушкина лицом совершенно новым.
* * *
В одном из своих стихотворных фельетонов Некрасов нарисовал портрет ветерана николаевской цензуры. Он заставил «старца», отложив в сторону газету, изложить читателю свое кредо, вспомнить не без затаенной гордости, как находил «вредные мысли» (он называл их «канупером») в сочинениях Купера и Вальтера Скотта, и пожаловаться на измену детей, стыдящихся честного цензорского звания своего родителя.
Именно так, вероятно, должен был бы исповедоваться Павел Иванович Гаевский, будь он на месте некрасовского цензора. Он с неменьшей проницательностью обнаруживал вредные мысли и даже мог бы называть их «канупером», так как был родом с Полтавщины. Сын его Виктор Павлович Гаевский был видный либеральный деятель, литератор, филолог и друг Некрасова. Биографии двух цензоров - реального и воображаемого - имели много общего; не привнес ли Некрасов в цензора из «Газетной» нечто от Павла Ивановича Гаевского?
В 1836 году Гаевскому было тридцать девять лет. За плечами его было обучение в Полоцкой духовной академии, которую окончил он со званием магистра, служба в разных канцеляриях - духовных и гражданских. В 1825 году он обосновался в канцелярии министерства народного просвещения, а в 1826 году был назначен цензором в Санктпетербургский цензурный комитет - одновременно с его давним знакомым еще по Полоцку Константином Степановичем Сербиновичем [61]. 10 августа 1826 года он извещает об этом Сербиновича, не скрывая своей радости. “Вчера Василий Николаевич <Семенов> уведомил меня о сотворении нас цензорами, - пишет он. - Душевно поздравляю тебя. Дал бы бог, чтоб усердие наше к пользе общей заменило неопытность нашу по сей части!” [62]
Вероятно, Гаевский несколько скромничал, ибо вовсе не был новичком в делах литературной политики. Но обещание возместить неопытность служебным рвением он выполнил, и очень скоро, - именно тогда, когда в руки ему попала рукопись академического “Месяцеслова” на 1827 год.
Цензурование этого солидного и совершенно благонадежного ведомственного издания неожиданно оказалось не спокойным и даже не вполне безопасным. Месяцесловы имели обыкновение с летописным бесстрастием фиксировать достопамятные события ближайших лет. Ближайшие же годы были 1825 и 1826. И вот:
“Декабря 14.Анонимный сочинитель явно не понимал политики. Гаевский ее понимал. Дело было вовсе не в том, чтобы осудить заговор как гнусный: распространяться о нем с подробностью вообще было неуместно. Злоумышления против империи не было, иначе был бы соблазн. Были частные и быстро ликвидированные беспорядки. И Гаевский пишет:По обнародовании Высочайшего манифеста о восшествии на престол, тогда когда все Государственные сословия и чины воинские, народ и войско единодушно приносило присягу в верности государю императору Николаю Павловичу и его наследнику, горсть непокорных, здесь, в столице, дерзнула противостать общей присяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям. Надлежало употребить силу, чтоб рассеять и образумить сие скопище. Вследствие сего смутного происшествия взяты под стражу главные зачинщики мятежа; а рядовым, вовлеченным в сей мятеж обманом и изъявлявшим живейшее раскаяние, даровано высочайшее прощение.
Оный мятеж обнаружил существование весьма гнусного заговора, имевшего целию ниспровержение престола и отечественных законов, превращение порядка государственного и введение безначалия. Высочайше учрежденной на сей случай Следственной комиссии предоставлено было открытие сих ужасных преступлений и злобных замыслов во всем их пространстве и подробности” [63].
“Нужно ли в Календаре описывать сие с такою подробностию? Не лучше ли упомянуть о сем слегка и короче, например, следующим или тому подобным образом:
“В то время некоторая малая часть воинских команд, введенная в заблуждение, дерзнула оказать неповиновение, которое вскоре укрощено было; но при сем открылось преступное злоумышление некоторых участвовавших в том разного звания лиц, из коих главнейшие зачинщики по суду Государственного совета и Сената осуждены на, казнь, другие же сосланы в заточение, а прочие, менее виновные, прощены” [64].Сочинитель статей о памятных событиях и далее продолжал проявлять бестактность, упомянув под генварем 1826 года о “возмущении части Черниговского полка” - “мятеже”, принадлежащем “к обнаруженному уже гнусному заговору”. В тоне цензора слышится раздражение:“Мне кажется, нет никакой надобности упоминать и оставлять о сем память в Календаре; о худых примерах лучше умалчивать, нежели твердить об них и предавать во всенародное известие” [65].Строго говоря, такие ремарки не входили в обязанности цензора. Но на заре своей деятельности Гаевский не в силах сдержать благородное негодование, тем более, что далее следует:“1826.<...> Июль.Здесь уже неизвестный сочинитель преступил все правила прямого приличия. Ему нужно сказать об этом раз и навсегда.13. Поутру вследствие оных приговоров, смягченных Его Величеством, преданы смертной казни публично пять самых главных преступников Государственных; прочие же Государственные преступники получили тогда же определенное им наказание и сосланы по назначению. Таким образом очищена навсегда Святая Русь от оной заразы, извне нанесенной и уже давно гнездившейся. По сему случаю принесено было благодарственное молебствие Всемогущему творцу следующего дня поутру, на Сенатской площади, на том самом месте, где семь месяцев тому назад, при внезапном мятеже, открылась тайна гнусного заговора”.
“О сем также сказано уже было выше сего и довольно сказать однажды. Желательно, чтоб подобные происшествия, для чести Государства, в самой Истории забыты были, но распространяться и твердить о них в календарях под именем достопамятных событий, кажется мне, есть ли не обманываюсь, весьма не пристойно и не полезно. Притом же и в выражениях надобно наблюдать осторожность, чтобы не могло выходить из них некоторого нехорошего смысла, как то здесь сказано: «вследствие оных приговоров, смягченных Его Величеством, преданы смертной казни», слово смягченных при словах преданы смертной казни, делает некую несовместную игру слов” [66].Стоило привести эту длинную выписку, чтобы наглядно представить себе, с чего начинал свою деятельность неопытный двадцатидевятилетний цензор. Любой политик мог бы позавидовать и поразительной тонкости чутья, с какой этот новичок улавливал самый дух официозной легенды о восстании, и его искусству насыщать этим духом каждое слово, каждый оттенок и оборот. А в верноподданническом пафосе его комментариев слышатся уже и какие-то учительные интонации. Здесь нет и следа нерешительного, боязливого упорства Александра Крылова - но активное, действенное “усердие к пользе общей”. Да, это был “цензор милостью божьей”, и даже более чем цензор.Годы приучили Гаевского быть осторожнее. Приходилось иметь дело с авторами, а не с анонимами. Авторы были строптивы. “По цензуре покамест у меня нет еще неприятностей; что дальше будет? Греч со мною, как рыба с водою; но я на это не полагаюсь”, - пишет он Сербиновичу 25 июля 1829 года [67]. Не далее как за год до этого у него были столкновения с Булгариным; раздраженный вычерками в корректуре “Северной пчелы” и “Сына отечества”, “бешеный поляк” писал ему полуугрожающие, полуистерические письма [68].
Гаевский пытался устраниться и передать Булгарина под эгиду Сенковского или Сербиновича. Но на горизонте уже проявлялся другой “враг” - Воейков с “Славянином” и “Литературными прибавлениями к Русскому инвалиду”, - субъект не менее беспокойный, чем Булгарин, с той же наклонностью ввязываться в журнальные свары, писать личности и задевать все и вся. Еще в начале 1829 года их отношения переживали медовый месяц: Воейков льстиво поручал себя в благорасположение Гаевскому и просил все недоумения решать сразу же, на месте. Затем ему понадобилось восстановить отдельные слова, впрочем, невинные.
С Воейковым нужно было держать ухо востро: все, что он писал, непременно сбивалось на пасквиль, на личность. Поэтому Гаевский предпочитал вычеркнуть лучше лишнее. К августу 1830 года Воейков начал роптать и спрашивать, почему из его статьи вычеркнута фамилия “Крокодилов”, а вельможа “Гидрин” оставлен [69]. Ответить на этот вопрос, действительно, было нелегко. Наконец, терпение Воейкова лопается:
“Исключение слова «Крокодилов» выбрано мною как самый разительный, ясный как день, неподверженный никаким толкам и пересудам пример самосуда”.Воейков был пасквилянт с неоспоримой репутацией, но, как ни странно, в оценке Гаевского он оказался прав.
“Вы, извините мою откровенность, взносите в комитет всякую безделку, в которой нет тени к сомнению, представляете оную с такой ужасающей точки, что и комитет начинает сомневаться, и статья, стоившая труда и времени, иногда запрещается” [70].Не обходилось и без служебных неприятностей. С 20 по 28 марта 1829 года он высидел на гауптвахте в Гребном порту за промах, не наносивший, впрочем, большого ущерба государству. Гауптвахта была не обременительна, но дело о служебном упущении тянулось чуть не четыре года, и формуляр грозил сделаться нечист [71], в конце концов обошлось. Ннкитенко посмеивался над ним, что будто он не пропускает от трусости известий, что-де такой-то король скончался. Но дело здесь было не только в трусости.
Дело было и в том, что Павел Иванович Гаевский знал совершенно точно, в каком направлении должна идти отечественная словесность и в каком не должна. Он сам был некоторым образом к ней причастен и перевел с польского и французского несколько сочинений. Нынешнее состояние словесности его глубоко не удовлетворяло, и он считал нужным каждый раз отмечать это в пространных рапортах. Однажды случилось ему цензуровать рукопись капитана Бурачка, где автор обличал барона Брамбеуса в безнравственности, неблагонадежности и кощунстве; козни барона посрамляет добродетельный моряк Линьков, который велит высечь его линьками. Незаурядному этому творению Гаевский посвятил особый разбор. Он затруднялся одобрить рукопись, как содержащую явную личность, но запрещение его не было безусловным.
“Я далек от того, - писал Гаевский, - чтоб благонамеренный труд автора решительно подвернуть запрещению. Напротив, надобно желать, чтоб бедная литература наша обогащалась сочинениями в таком прекрасном религиозно-нравственном духе <...> Автор <...> постиг кривое направление большей части наших словесников и настоящим сочинением подает пример, в каком духе надобно писать в наше время, когда действительно так видима холодность ко всему религиозному” [72].Он с восторгом пишет заключение о книге Виктора Лебедева “Правда русского гражданина”, предлагая разослать ее для народного чтения по губернским публичным библиотекам:“Правду русского гражданина с пользою могут читать и перечитывать все сословия, потому что книга эта написана в прекрасном духе: каждая статья доказывает благородное намерение автора принести соотечественникам пользу, внушением любви к отечеству и государю и к обязанностям каждого гражданина. Подобные книги, по моему мнению, стоят не только одобрения, но и поощрения правительства. Одна такая книжка может принести более пользы, нежели томы высокопарных творений, недоступных понятию народной массы” [73].Это был символ веры проводника в практику теории “официальной народности”, сформулированной шефом - министром Уваровым. “Томы высокопарных творений” создали литераторы привилегированные, напоенные ядом растлевающих крамольных идей. Им-то и противополагалась “народная масса” - хранительница “устоев”, а перед творениями их воздвигался заслон из книг доступных и благонамеренных.Требование “демократизма” далеко не всегда имело прогрессивный смысл. Самые косные, охранительные идеи в 30-е годы прошлого века часто выступали под флагом демократии.
Этим охранительным демократизмом был насквозь проникнут Гаевский, в 1837 году - статский советник, вице-директор департамента министерства народного просвещения, а в будущем - правая рука Уварова, ордена св. Анны с императорской короной, ордена св. Анны I степени, ордена св. Владимира и прочих российских орденов кавалер. Через два года, посетив Москву, он будет писать жене в неподдельном патриотическом восторге о “жилище добрых Русских царей”, пробуждающем в нем “исторические воспоминания” [74].
И забота о престиже царей и о воспитании “простого народа” звучит как лейтмотив всей деятельности Гаевского.
“...Прилично ли, и не вредно ли печатать на русском языке книгу, заключающую в себе развитие заговора против Государя”, подобную драме Дюма “Генрих III и его двор”; ведь книга будет обращаться “между людьми всякого состояния”? [75]
Следует исключить из “Обрученных” Манцони сцены бунта, “потому что пользы от описания народного буйства произойти не может, а вред от оного весьма возможен” [76].
Пьеса “Цезарь, диктатор Рима”, перевод на польский из Вольтера, “наполнена тирадами против верховной власти...” [77]
Его деятельность кончилась в 1864 году, когда он в чине тайного советника оставил службу и доживал свои дни на покое, всецело поглощенный домашними делами. В его семейной переписке и дневниковых записях нет и следа литературных тем, никаких ассоциаций, никаких воспоминаний о выдающихся деятелях русской культуры, с которыми столкнула его судьба. Лишь в письме от 12 - 23 сентября 1857 года, писанном за границу, где путешествовал в это время сын, будущий литератор В. П. Гаевский, есть упоминание о литературе и вместе с тем жизненное кредо автора:
“Николай говорит, что если ты не воротишься, потеряешь всю карьеру служебную, а в нашем положении, завися от службы, нельзя пренебрегать ею. Ты намерен выйти в отставку?! Сам имеешь разум: рассуди, какие будут последствия? На чем основываешь свои надежды? Неужели на литературном труде? Это чистая фантазия. Бог дал .тебе способности, употреби же их в дело, насколько позволит здоровье” [78].Когда в апреле 1836 года перекрестились пути Пушкина и Гаевского, Пушкин имел о своем новом цензоре достаточно ясное представление.В 1827 году Главное управление цензуры направило министру народного просвещения письмо следующего содержания.
“О двух стихотворениях А. Пушкина: 19-е октября и К***.Г. цензор надворный советник Гаевский внес на общее суждение Главного цензурного комитета два стихотворения Александра Пушкина под названием:
1. “19-е октября” и 2. “К***”, которые предназначаются для помещения в издаваемом бароном Дельвигом альманахе “Северные цветы”. В стихотворениях сих автор, говоря о самом себе, употребляет некоторые выражения, которые напоминают о известных обстоятельствах его жизни; таким образом в пьесе “19-е октября” он говорит:
Поэта дом опальный,
О П ----- мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный...и далее:Когда постиг меня судьбины гнев и проч.Наконец, в предпоследнем стихе он называет себя опальным затворником.
Равным образом в другом стихотворении: “К***” он говорит:
В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои.Сверх того первое стихотворение содержит в себе не совсем правильное понятие о будущей жизни - в следующих стихах:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему.Главный цензурный комитет, находя затруднение к напечатанию вышеприведенных выражений в стихотворениях А. Пушкина, которые могут подать повод к различным толкованиям и применениям, долгом почитает представить об оных на благоусмотрение и разрешение Вашего высокопревосходительства.Гаевский был верен себе. Его указания на “ложное представление о будущей жизни”, выраженное в стихах “мы близимся к началу своему”, - напоминало времена блаженной памяти Красовского. Министр не согласился с ним и разрешил печатать стихи; они появились в “Северных цветах” без изменений.Председатель Главного цензурного комитета
Лев Карбоньер” [79].
После этого Пушкину не часто приходилось иметь дело с Гаевским, но всякий раз его имя связывалось с какими-нибудь шумными цензурными историями. С 17 сентября по 8 октября 1829 года тянулось дело о пропуске статьи Пушкина “Отрывок из литературных летописей”, которую Егор Аладьин собирался напечатать в “Невском альманахе”. Гаевский вновь подал письмо, где указал, что “объявил г. Издателю о несогласии” своем на пропуск оной статьи [80]. Статью рассматривали в комитете, потом в Главном управлении цензуры [81], она не была пропущена и лишь через месяц в переделанном виде явилась в “Северных цветах” [82].
В заседании 3 декабря Гаевский вместе с Сербиновичем возражал против напечатания в “Северных цветах” стихотворения “26 мая 1828”, “в котором поэт жалуется на того, кто враждебной властью вызвал его из ничтожества к жизни, не представляющей ничего, кроме мучения, единообразного шума, пустоты сердечной, душевных страстей и страданий ума”. Прочие же члены комитета положили “в вымыслах не требовать строгой точности, свойственной описанию предметов высоких и сочинениям важным” и позволили печатать [83]. И почти в то же время Гаевский представил в комитет эпиграмму “Собрание насекомых”, сомневаясь, “не заключает ли она в себе эпиграммы на известные какие-нибудь лица, хотя на месте имен и поставлены одни только знаки” [84]. Гаевский никак не мог научиться воздерживаться от разгадывания затаенных мыслей автора. Комитет допустил стихотворение к печати. Вообще комитет нередко оказывался либеральнее Гаевского.
Одному богу известно, каким образом Гаевский не обратил внимания, что его цензорская подпись стоит под очевидно подозрительными стихами “19 октября 1827”: в них упоминались “друзья” сочинителя “в мрачных пропастях земли”, за что Пушкин получил высочайший выговор. Воейков, представляя эти стихи для своего “Славянина”, озаглавил их “К товарищам молодости” и пустил без подписи; Гаевскому же передал вместе со статьей “Долг платежом красен” и стихами “На смерть молодой девушки” и “Совет красавице”. Чутье Гаевского, видимо, изменило ему на этот раз, и он пропустил стихи 27 июня 1830 года без прекословия [85].
Еще через год он ставит свою подпись на брошюре со стихами “Клеветникам России”; это не сулило ему неприятностей; он, вероятно, даже сочувствовал “духу” стихов, которые понимал по-своему. Есть сведения, что стихи эти назывались вначале “На речь, говоренную генералом Лафайетом” и что цензура предложила заменить название, - но рекомендация шла, вероятно, не от Гаевского, а из III Отделения [86] или, еще вероятнее, из цензуры министерства иностранных дел. Но и прошлых столкновений с ним было совершенно достаточно, чтобы Пушкин обеспокоился, узнав, кого назначили ему вторым цензором для “Современника”.
И здесь странным образом история обрывается. Принял ли Пушкин свои меры, говорил ли он с Дондуковым или были тому какие-то другие причины, - но ни одна статья для “Современника” через руки Гаевского не прошла. Как будто и не было официального назначения. Крылов остался единственным цензором пушкинского журнала.
Впрочем, цензору Гаевскому предназначено было еще раз принять в литературной судьбе Пушкина косвенное участие.
Оставим на время Гаевского и вернемся к Крылову, который продолжал цензуровать “Современник” и 16 июля 1836 года подал Дондукову-Корсакову за № 342 “донесение” следующего содержания: * * *
“Имею честь представить на благоусмотрение и разрешение Вашего сиятельства следующие статьи, поступившие ко мне на рассмотрение, для периодического издания: «Современника».Письмо это - документ исключительный; едва ли не единственный раз в цензурной практике этого времени четыре статьи для одного номера журнала выносятся па суд и решение цензурного комитета. Если мы вчитаемся в текст письма, мы сможем заметить, что в нем нет никакой злонамеренности в отношении “Современника”.1) Стихотворение Ден. Давыдова, «Челобитная», заключает в себе пожелание Автора, чтобы ненаименованный Патрон помог ему продать в казну дом за сто тысяч; сомнение мое допустить статью сию в настоящем виде основывается преимущественно на изображении Патрона и полиции, представленном в начальных стихах.
2) Из мелких стихотворений Ф. Т., доставленных к издателю из Мюнхена, два №№ XV и XIV останавливают меня в одобрении потому, что в первом (XV) я не мог усмотреть действительной мысли Автора; а во втором (XVI) две средние строфы подлежат, кажется, исключению по первому пункту Ценсурного Устава.
3) Статья под названием «О Партизанской войне» заключает собственно дидактическое изложение с.его предмета; однако ж Автор, применив его к России и приводя в пример события 1812-го года, старается доказать, что род войны партизанской нигде не может получить большего развития и должен быть потому грозою для прочей Европы. На сем основании имею честь представить на благоусмотрение Вашего сиятельства, не надлежит ли. статью сию, как заключающую изложение предмета воинского искусства, с применением к современному быту России, препроводить на заключение Цензуры военного министерства.
4) Биографическая и критическая статья: «Александр Радищев» с Епиграфом: “II пе faut pas qu'un honnete homme merite d'etre pendu” напоминает о лице и происшествии времен императрицы Екатерины II. Радищев, посланный на щет Правительства, для усовершенствования себя в иностранных Университетах, возвратился в Россию, напитавшись, как и другие сверстники его, философиею того века; напечатал возмутительное сочинение в домашней типографии и по повелению императрицы сослан был в Сибирь. Император Павел I приказал его возвратить, а Александр I соизволил и на принятие в службу, по Комиссии по составлению законов. Несмотря на то, Радищев повторил старые свои идеи в одном проекте, составление которого было ему поручено от Начальства. Граф 3. сделал, по сему случаю, замечание, и устрашенный Радищев отравил себя ядом.
Жизнь Радищева, литературные произведения и преступление, навлекшее на него ссылку, составляют предмет упомянутой статьи, назначаемой для периодического издания «Современник»; не зная, в какой степени может быть допущено возобновление подобного факта в периодическом издании и находя, с другой стороны, что некоторые сведения должны быть заимствованы из официальных бумаг, долгом почитаю представить на благоусмотрение Вашего сиятельства, не благоугодно ли будет испросить по сей статье разрешения Главного управления ценсуры.
Ценсор А. Крылов. 16 июля 1836.” [87].Более того, здесь есть несколько “подсказок”, пользуясь которыми можно сохранить статьи. “Дидактическое изложение предмета” в статье “О партизанской войне” означает, что основная ее часть могла бы и не пересылаться в военную цензуру, которая просматривала только статьи о современных или недавних событиях, относящихся к русской военной истории. Цензор колеблется; пусть ответственность возьмет на себя комитет. И даже статью “Александр Радищев”, к которой у него явно настороженное отношение, он не считает нужным осудить безусловно на запрещение, замечая, что “некоторые сведения” в ней “должны быть заимствованы из официальных бумаг”, - а это, с точки зрения цензуры, является довольно серьезным доводом в ее пользу.
Так за официальным письмом раскрывается некая перспектива, ведущая нас не только в индивидуальную психологию самого Крылова, - чем можно бы и пренебречь, - но в общественную психологию времени. В мозгу чиновника министерства народного просвещения прочно отпечатлелось требование возводить “умственные плотины”, за что отвечал в первую очередь он. Но между двумя огнями - начальством и журналистом, - он чувствовал себя в неуверенности, и сознание его раздваивалось.
И было отчего, ибо самая воля начальства оказывалась величиной хотя и вполне реальной и даже чреватой последствиями, но не слишком определенной. Министр предлагал постигать направление цензуры не из устава только, а из “хода вещей”, стремительного и прихотливого. Да и самая цензура с каждым годом все менее и менее походила на ту организацию, на которую возлагали столько радужных надежд в апреле 1828 года.
Она теряла свой первоначальный вид и функции. У нее появлялись новые права и новые обязанности. Она возникала в многообразных обличьях, цензоры носили академические мундиры, мундиры военные, почтового ведомства; они рядились в духовное облачение. Один цензор назывался митрополит Серафим; в январе Бенкендорф передал ему высочайшую волю, чтобы он “в таких случаях, когда в издаваемых для всеобщего употребления сочинениях усматриваемы будут противные вере, нравственности и общественному устройству суждения либо неблагонамеренности”, сообщал бы об оных Бенкендорфу для доведения до высочайшего сведения". Но это уже было неофициально.
Официально же существовало явление, которое историки назвали “множественностью цензур” [89].
О цензуре земской и удельной и партизанском рейде Дениса Давыдова
Была духовная цензура синода, медицинская цензура для лечебников и медицинских журналов, цензура министерства внутренних дел для афиш и объявлений. Так значилось в уставе 1828 года. Потом министр финансов заявил о своем праве дополнительно цензуровать книги, касающиеся дел его министерства. Проходит несколько лет - и Горный департамент уравнивается в цензорских правах с министерством финансов. Издатели журналов с немым отчаянием наблюдали, как добрая половина статей не торопясь странствует из Санктпетербургского цензурного комитета в ведомство почтовое или горное, затем возвращается обратно для нужных исправлений и только после этого начинается обычная процедура цензурования.
В декабре 1833 года военный министр граф Чернышев уже официально потребовал, чтобы все статьи, так или иначе описывающие военные действия российской армии, равно как и содержащие сведения о современных военных событиях, направлялись ему для просмотра [90]. Министр отдавал их затем в Военно-цензурный комитет, который следил, дабы оные статьи были основаны строго на официальных реляциях. Изъятие из общего правила делалось, как указывал министр, только для описаний битв в эпических поэмах, что избавляло генералов, заседавших в комитете, от сугубо филологической работы по приисканию среди реляций реальных источников литературных произведений.
Уваров немедленно предложил отношение военного министра к строгому исполнению; оно было повторено еще раз 18 июля 1835 года.
Донесения цензоров дают нам возможность почувствовать, насколько беспрекословно исполнялось это предписание. А.Л. Крылов извлек из собрания стихов некоего Малышева “Военную песнь”, касающуюся “особы Императора и Лейб-гвардии егерского полка” и не вполне заимствованную из официальных реляций. “Военную песнь” запретили [91]. Донесение же Крылова от 14 января 1836 года может служить великолепным историческим и психологическим памятником глубокой неуверенности и колебаний цензоров, соприкасавшихся с военными материями. Речь шла о переиздании уже дважды изданной книги Броневского “Записки морского офицера”, посвященной военным действиям русской эскадры в 1805 - 1810 годах; не в силах найти в ней что-либо прямо предосудительное с точки зрения общей цензуры, цензор с какой-то робостью доносит, что “только несколько отдельных мест во II части... приличнее, казалось бы, изменить незначительными опущениями”. У него явно нет собственного определенного мнения, и он запрашивает комитет, не надлежит ли все же послать книгу в военное министерство, ибо издания ее 1818 и 1819 годов были одобрены лишь Адмиралтейским департаментом и могли пройти мимо военного министерства.
Заключение комитета звучало, впрочем, несколько иронически; он отказался войти в новые сношения по поводу книги, содержание которой “одобрено уже было начальством, до которого описываемый предмет непосредственно касается”, и разрешил ее печатать, коль скоро цензор “не находит, других препятствий к напечатанию, кроме означенных в донесении” [92].
Нужно сказать, однако, что основания для беспокойства у цензора были, так как редкая рукопись возвращалась из Военно-цензурного комитета без замечаний по поводу тех или иных “слов и выражений”, признанных “вредными и превратными” [93].
Таков был “ход вещей”; постигнув его, Крылов и предложил переслать в Военно-цензурный комитет статью для “Современника”, где заключалось изложение военных событий, с применением к современности.
Крылов упоминал в “донесении” статью “О партизанской войне”, и здесь требуется еще одно отступление, потому что первой была не эта статья, а другая, тоже давыдовская и тоже посвященная войне двенадцатого года.
В 1836 году в военную цензуру поступало больше чем когда-либо статей о 1812 годе. Был канун “бородинской годовщины”.
Попытка Давыдова “проскочить” сквозь цензурный кордон оказывалась очень сродни былым его партизанским рейдам. Мемуары его не слишком стесняли себя следованием официальным данным: они были подчеркнуто субъективны и содержали нечто от оправдательной записки и нечто от памфлета. 10 марта 1813 года он, в ослушание приказа, занял со своим партизанским отрядом Дрезден и, что еще хуже того, заключил двухдневное перемирие с защищавшим город генералом Дюрютом. Давыдов был обвинен в нарушении приказа и лишен командования; понадобилось заступничество Кутузова и распоряжение Александра I, чтобы спасти его от военного суда. Виновником всех бед, последовавших за победоносным кавалерийским набегом, Давыдов считал генерала Винценгероде, своего непосредственного начальника, который, по его мнению, стремился приписать себе заслугу взятия города.

Рис. Д. Дайтона. 1814 г.
В начале марта Давыдов переслал их Пушкину, предварительно дав прочитать военному историку генералу Михайловскому-Данилевскому, входившему, кстати, и в Военно-цензурный комитет. Правда, после чтения статьи Михайловским, расчеты Давыдова увидеть ее в печати сильно поколебались. Он посылает ее Пушкину уже почти на “авось”. “Боюсь за ценсуру, - пишет он Пушкину. - Хотя Данилевский мне хороший приятель, но, читав мою статью, он что-то морщился. увидим: смелым бог владеет...” [94].
Генерала Винценгероде уже восемнадцать лет не было на свете, но Давыдов не мог забыть столкновения, которое чуть было не разрушило всю его военную карьеру. Для воспитанника Багратиона и Ермолова в имени Винценгероде сосредоточилось все, что он отвергал и презирал в александровской и николаевской армии: и засилье “немцев”, и ограниченность, и безынициативность военного мышления, и охота за чинами, и формализм. Реальный Винценгероде, может быть, и не заслуживал столь строгого исторического суда, - но под пером Давыдова он превращался в своего рода символ, и поэт-партизан пользовался любым случаем обрушить на него всю мощь своего сарказма. Об эпизоде с занятием Дрездена он расказывал еще в начале двадцатых годов в своей автобиографии, написанной от чужого имени и напечатанной впервые в журнале “Русский зритель” в 1828 году:
“Тут фортуна обращается к нему задом: Давыдов предстает пред лицо генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним он проходит Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения, - Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За таковую дерзость он лишен был команды и отозван в главную квартиру”.Журнал цензуровал уже известный нам С. Н. Глинка, непостижимым образом не заметивший рискованного каламбура, где “лицо” Винценгероде отождествлялось с “задом Фортуны”. Впрочем, может быть, рассеянность его была намеренной: ключевые слова в остроте были выделены курсивом, а весь пассаж он прочел, и прочел внимательно: в нем есть следы цензурной правки, заметные при внимательном чтении. Она привела к логическому несоответствию. Почему, пройдя Польшу, Силезию и Саксонию, Давыдов потерял терпение? Это неясно.Мы поймем это только тогда, когда сравним журнальный текст автобиографии с более поздним, который Давыдов напечатал через четыре года в сборнике своих стихотворений. Здесь ему удалось восстановить фразу в ее первоначальном виде:
“С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения!”
Нет сомнения, что так и было в исходном тексте уже в 1828 году. И не “отозван”, а “сослан” в главную квартиру, читаем в автобиографии 1832 года.
Когда А.В. Никитенко цензуровал автобиографию для первого тома Собрания сочинений Давыдова - это было в декабре 1837 года, - он оставил “сослан”, но, подобно Глинке, убрал “пресмыкается”. “С ним идет он чрез Польшу, Силезию...” Оставил он и каламбур, но курсивом выделил только слово “задом”. Sapienti sat.
Скажем, пользуясь случаем, что в автобиографии 1832 года, как и в стихах этого сборника, осталось довольно много таких мест, которых не пропускали последующие цензоры. Цензуровал эту книжку И.М. Снегирев, профессор латинской словесности, археолог и фольклорист. Он бывал довольно придирчивым цензором, - но время было другое: в начале тридцатых годов в Московском цензурном комитете нравы были более патриархальные, нежели в столице. Как бы то ни было, Снегирев позволил Давыдову несколько порезвиться.
“В 1819 году он вступает в брак; а в 1821 бракует себя из списков фрунтовых генералов и поступает в список генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни и, в начале 1823 года, выходит в чистую отставку”.В собрании сочинений осталось:“В 1819 году он вступает в брак; а в 1821 году бракует себя из списков фронтовых генералов и поступает в список генералов, состоящих по кавалерии. В начале 1823 года выходит в чистую отставку” [95].В первом пассаже - искрящееся остроумие, живость, веселость, аттическая соль. Во втором - формулярный список, Купюра была сделана там, где говорилось о бюрократизме, царившем в александровской армии.Давыдов не увидел этих строк в печати. Он умер за год до выхода их в свет. Он был бы взбешен, прочитав этот пассаж, - и гнев его обрушился бы и на цензора, и на корректора, который не видел разницы между “фронтом” и “фрунтом”.
Он никогда добровольно не “браковал” себя из списков “фронтовых генералов”. Напротив, в том же сборнике 1832 года он в затейливом сравнении отдавал предпочтение кагульским и очаковским “инвалидам-героям” перед “новым поколением Забалканских и Варшавских щеголей-победителей”. В 1837 году Никитенко убрал “щеголей” - и то это была смелость: ни слова нельзя было сказать в неодобрение Дибича и Паскевича.
Времена менялись - и не к лучшему. Правда, и в 1832 году Вяземский удивлялся, как были напечатаны все эти “гусарские шалости” - “умора и соблазн велий!” - и выписывал для Жуковского “выходку” о Винценгероде. А В.Д. Комовскнй, прочитав сборник, писал Языкову, что “оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придираться”, “уже переходит в литературу” [96].
В статье “Занятие Дрездена...” “оппозиция” также “переходила в литературу”. Прямых “выходок” здесь было немного, - но весь ход повествования, с чисто давыдовским богатством интонаций, то публицистических, то иронических, то лирических, - раскрывал тайные механизмы войны выгод и честолюбий. Молодой партизан, авантюрного склада, с отчаянным риском захватывает военную добычу; аккуратный и осмотрительный генерал из “немецкой партии” подбирается к ней же осторожно и методично, руководимый корыстью и расчетом.
Михайловский-Данилевский не напрасно “морщился”, читая эту статью: будущий составитель высочайше утвержденной истории войны 1812 года, он знал официальную версию событий и чутко реагировал на отклонения.
Пушкин не был столь искушен в таинствах военно-цензурной политики, но он знал Давыдова и его взаимоотношения с военными властями. Получив статью, он переслал ее военному министру графу Чернышеву. Чернышев благодарил вежливым письмом; статью же установленным порядком передал в военную цензуру [97].
Пушкин послал статью Чернышеву лично, видимо, рассчитывая на его заступничество. Расчет, однако, был плох, потому что цензурная машина действовала “по заведенному порядку” и статья проходила те же самые инстанции, обойти которые хотел бы Пушкин: Военно-цензурный комитет, а затем Санктпетербургский цензурный комитет. Чернышев дал это понять Пушкину, позолотив пилюлю необычайной любезностью тона, выражением “своей особой признательности” за “сообщенную” ему рукопись, наконец, обещанием возвратить ее - так же, без чинов, - коль скоро она к нему будет доставлена из комитета. Но и этого не случилось, в силу “заведенного порядка”.
Когда статья пришла из военной цензуры, случилось как раз то, чего опасался Давыдов. Цензорский карандаш убрал не только прямые филиппики против Винценгероде. Он коснулся и общих рассуждений Давыдова, и ставших уже историей документов, которые тот приводил в свое оправдание.
Цензурная рукопись “Занятия Дрездена...” до нас не дошла, - однако ранняя рукописная редакция очерка сохранилась и, сравнивая ее с печатным текстом, мы можем убедиться, что в печать не попало около четверти написанной Давыдовым статьи [98].
Единственное, что осталось от памфлетного портрета старинного врага Давыдова - небольшое примечание, эпически излагавшее данные его формулярного списка. Здесь сообщалось, что генерал Винценгероде служил майором в гессен-кассельском войске, в 1797 году был принят в русскую службу адъютантом к великому князю Константину Павловичу (это был другой заклятый враг Давыдова), в 1799-м был исключен из русской службы и немедленно вступил в австрийскую, в 1801 году снова принят в русскую службу с назначением в генерал-лейтенанты, после Аустерлица опять перешел из российской службы в австрийскую, “но в начале 1812 года обратно перешел в российскую службу”; “был взят в плен в Москве, куда он выехал один, без конвоя, в середину неприятельских войск, которых он полагал уже вне столицы; отослан во Францию и на пути, в окрестностях Молодечно, выручен из плена полковником Чернышевым (ныне военным министром)...” [99]
Это был венец памфлетного мастерства. Сухой перечень служебных перемещений создавал гротескный портрет безнадежно неспособного австрийского майора, неизвестно за какие заслуги получавшего в России высшие воинские чины. И все было основано на официальных документах.
Давыдов сумел пустить парфянскую стрелу в российскую военную администрацию. Но это мало его утешало. Известие о цензурных купюрах в “Занятии Дрездена...” поразило его, хотя он и был к нему подготовлен. Он написал Пушкину бодрое письмо, но бодрость была какая-то деланая. Он не без юмора вспоминал, как Чернышев уже один раз отбил Винценгероде у французов, - и вот теперь вновь спасает его от “анафемы”, воспетой Давыдовым “поганой его памяти”. Как обычно, немного бравируя своим партизанским прошлым, он просит Пушкина позаботиться о потрепанном в цензурных боях “эскадроне”, - привести его в порядок и соединить разорванные части, что бы можно было с новыми силами “врубиться в паршивую колонну [Ценсуры]”. Но он явно уже начинает терять интерес к статье, которая теперь, как ему кажется, утратила “связь, узел, единство” и вряд ли приобретет их вновь. У Давыдова уже созревает новый журнальный замысел - такой “Эскадрон”, “который пройдет через военную ценсуру нос кверху, фуражка набекрень и с сигаркою в зубах” [100].
Пушкин убеждал Давыдова не отказываться от напечатания “Занятия Дрездена”. Но мысль взять статью обратно все больше овладевает Давыдовым. Он просит, чтобы прежде “Занятия Дрездена” была напечатана другая статья, которую он теперь спешно заканчивает, и прозрачно намекает, что Дрезден без Винценгероде будет плох, что это уже не статья собственно, а “оставшиеся строки”, рассказ голый и бескрасочный. Но Пушкин настаивает. Строго говоря, ему нужна была не столько оправдательная записка Давыдова, сколько превосходное и достоверное повествование живого участника событий. Давыдов нехотя соглашается, а тем временем готовит другую статью, которую хочет печатать первой.
Эту вторую статью, которая должна была занять место “Дрездена”, он посылает Пушкину 3 июня [101].
Статья называлась “О партизанской войне” и была отрывком из большого и любимого сочинения Давыдова “Опыт теории партизанских действий”, над которым он продолжал работать. Эта-то статья, где Давыдов, пользуясь личным опытом, излагал основы партизанской войны, обосновывая ее роль и значение в условиях России, и должна была пройти “с сигаркой в зубах” мимо цензурного комитета, в чем Давыдов был совершенно уверен [102]. Однако уверенность его была преждевременна.
Как мы помним, 16 июля 1836 года А. Крылов подал записку с предложением отправить статью в военную цензуру [103].
И сочинение Давыдова решением Петербургского комитета от 14 июля (рапорт цензора был написан задним числом) отправилось уже знакомым путем, которым шли злополучные воспоминания о взятии Дрездена [103].
24 июля Дондуков-Корсаков отправил его при отношении за № 145 в Главное управление цензуры.
Министр Уваров препроводил его к управляющему военным министерством генерал-адъютанту Адлербергу.
Военное министерство вернуло его 5 августа при отношении за № 5367 в Главное управление цензуры [104].
Уваров переслал его Дондукову-Корсакову при сопроводительной за № 261 от 8 августа 1836 года. В сопроводительной значилось:
“Ныне г. военный министр, согласно с заключением Военно-цензурного комитета, уведомил меня, что рукопись сия может быть допущена к напечатанию с следующими изменениями, которые означены красными чернилами и сделаны в тех местах, где сочинитель заблуждается или употребляет неприличные выражения” [105].Забегая вперед, скажем, что статья была напечатана в “Современнике” с предписанными купюрами и рукопись ее не сохранилась. Часть статьи знаменитого поэта и военного писателя, казалось, утеряна безвозвратно.Однако это не так. Дело в том, что военные цензоры иной раз с педантической аккуратностью выписывали в своем заключении подлежащие изъятию места. Так случилось и на этот раз. Вот текст заключения, содержащий эти неизвестные в печати строки Давыдова.
“<...> 1. В рукописи сказано:Заключение было подписано военным министром графом Чернышевым.“в 1812 году, недостаток времени к обдуманию и изобретению иных мер, кроме усилий в отражении неразрывных приступов несметного ополчения, напиравшего на грудь России, отвлекал нас от мер, считаемых недостойными внимания всеми военными писателями и наставниками, по сочинениям коих мы учились. До сего не умели мы постигнуть, что и писатели, и наставники наши были не русские, что они излагали законы военного искусства не для русских”.Комитет полагает выпустить сие место, во-первых, потому, что несправедливо и не свойственно говорить, будто бы у нас не имели времена обдумать средства к сопротивлению неприятелю, а во-вторых, что при начале войны 1812, в глазной, или так называвшейся первой армии, не по неумению употреблять легкие войска, но по недостатку конницы, особенно казаков, была невозможность отряжать партии на сообщение неприятелей и что тогда, как известно, дело шло не о раздроблении или ослаблении армий отрядами, но о том, чтоб по возможности стянуть все наши силы вместе.2. “В первой половине войны 1812 года некогда было заниматься нам изобретениями, а еще менее покорением предрассудков, посеянных в нас чужеземными писателями. Невнимание России к употреблению легких войск продолжалось до Бородинского сражения. Тогда только ощупали то оружие, которого нет в Европе и которого употребление не было в России замечаемо”.
Это мнение вымарано по той же причине, как и первое, и сверх того по несправедливому показанию, вновь здесь повторяемому, что русские действовали исключительно по внушениям каких-то иностранных писателей.
3. Комитет сделал несколько небольших перемен, где сочинитель изображает иррегулярные русские войска в виде гуннов и грозит Европе нашествием их.
4. Наконец, по совершенному неприличию уничтожены последние строки статьи, где сказано, что
“силы России стесняются чужеземною одеждою, и что горе европейским государствам, если такая одежда когда-нибудь лопнет по швам и по целому, разлетится в лохмотья”.10 августа рукопись вернулась в Петербургский комитет [107].
Взглянув на рукопись, Пушкин написал Давыдову письмо, в котором звучит почти отчаяние.
“Тяжело, нечего сказать. И с одною ценсурою напляшешься, каково же зависеть от целых четырех?”В последние годы царствования Александра вся литература “сделалась рукописною” из-за бессмысленной придирчивости Красовского и Бирукова - двух цензоров, одни имена которых наводили страх. Но сейчас журналисты вспоминали об этом времени с элегическим сожалением, потому что кольцо запретов было плотнее и сжималось с бездушной методичностью.“Ценсура, дело земское; от нее отделили опричнину, а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением” [108].Земщина - общие для всех единые правила печати.Опричнина - удельные владения военной цензуры, цензуры двора, III Отделения, министерства финансов, духовной цензуры - имя им легион. Для них нет общего закона. В каждом “княжестве” свои порядки. Сколько усилий, чтобы добиться выхода книжки журнала в срок, - сколько просьб, писем официальных и неофициальных, протестов и жалоб, сколько ночей бессонных над редактированием искалеченных любимых произведений - своих и чужих... По отчаянной безнадежности это напоминало ночную борьбу с призраком - но здесь борьба шла днем, а призраки имели голос и власть и были облечены в ведомственные мундиры.
Статью о партизанской войне, очищенную от “заблуждений и неприличных выражений”, набирали для третьего номера “Современника”. А в четвертом номере появилось - также очищенное - “Занятие Дрездена”.
“Полководец”
Вместе со статьей Давыдова в третий номер назначено было стихотворение Пушкина “Полководец”.
Когда-то Пушкин посвятил проникновенные строки памяти Кутузова, заставив своих читателей склонить голову перед “гробницею святой” “гения северных дружин”. Ныне он обратился к образу Барклая-де-Толли не потому, что облик Кутузова поблек в его глазах, а потому что фигура непонятого вождя, со стоическим спокойствием принявшего на себя бремя обвинения чуть ли не в измене, отрекшегося от славы, признания, успеха во имя неколебимого внутреннего убеждения, была в это время как нельзя более созвучна его настроениям.
“Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, - писал Пушкин, - но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения” [109]. С полотна Доу в военной галерее Зимнего дворца смотрело на поэта спокойное и угрюмое лицо оклеветанного полководца, и Пушкин читал на нем великую грусть и, может быть, презрение.
О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.И с тем же скорбным мужеством, с той же самоотверженностью, с какой герой нес свой нелегкий крест, он передает своим более счастливым преемникам все:
и ищет смерти, как простой воин, затерявшись среди полковых рядов.
“Полководец” был написан вовсе не для сравнения Барклая и Кутузова и не для оценки военных заслуг Барклая. Образ гения, отверженного веком слепым и буйным, где царствует заблуждение или низкий расчет, как бы накладывался у Пушкина в эти годы на его собственную судьбу.
Впрочем, дело было не только в этом. Уже не в первый раз в его поэтическом сознании возникает эта параллель: два человека, быть может, и не равно великих, но имеющих свои права на благодарность потомков, - но один прославлен и почтен, а другой оставлен в безвестности и незаслуженном забвении.
Этому второму всегда принадлежали его симпатии. Когда-то он отказался воспеть Байрона, чтобы вызвать из исторического небытия страдальца Андрея Шенье:
Меж тем, как удивленный мир
На урну Байрона взирает
И хору восхищенных лир
Близ Данте тень его внимает, -
Зовет меня другая тень...Призыв “другой тени” он услышал и теперь. Что знал Пушкин о Барклае? Сейчас мы уже не можем судить об этом с достоверностью, как не можем назвать и всех тех, кто знал полководца лично и мог рассказывать о нем Пушкину. Между тем, следы этих рассказов есть в тексте стихотворения. Исследователи называют возможные источники информации: А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, П.X. Граббе, Д.В. Давыдов...
Л.И. Голенищев-Кутузов, о котором далее пойдет речь, особо оспаривал нарисованный Пушкиным портрет: “презрительная дума” не была свойственна полководцу, он отличался “особенною мерностию и кротостию нрава”.
Денис Давыдов, также знавший Барклая, напротив, описывал его буквально пушкинскими словами: “сумрачный, постоянно угрюмый, хотя и скромный”, “холодный, как мраморная статуя”, “мужественный и хладнокровный до невероятия, Барклай, на высоком челе которого изображалась глубокая скорбь...”. Он писал так задолго до появления пушкинских стихов: “холодный”, “всегда величавый”, “вечно угрюмый, молчаливый, не умевший сказать ласкового и приветливого слова...”. Это было напечатано в 1832 году в “Замечаниях на некрологию Н.Н. Раевского”, которые Пушкин хорошо знал, - и там же он мог прочитать и о конфликтах Барклая и Багратиона, и о взаимной нелюбви его с Ермоловым, - и, наконец, о непопулярности Барклая в войсках, - из-за его характера, чужеземного происхождения, плохого знания русского языка и более всего из-за принятой им тактики, создававшей ему чуть что не репутацию изменника.

М.Б. Барклай-де-Толли
Фрагмент портрета работы Дж. ДоуО судьбе Барклая Пушкин знал, конечно, и помимо “Замечаний” Давыдова, - но в них история представала “домашним образом”, и она была вдвойне драматична. Она говорила голосом “ермоловца”, бывшего к тому же преданным почитателем памяти Багратиона. И тень давних разногласий - личных и профессиональных - ложилась на них, хотя Давыдов хотел и пытался соблюсти объективность.
В “Полководце” есть отзвуки устных преданий, идущих из ермоловского круга.
“Глубоко огорченный всем тем, что он видел и слышал, Барклай искал смерти в Бородинском сражении; он в этом со слезами на глазах признался Ермолову”, - вспоминал впоследствии Давыдов [110].
Пользуясь преданием, Пушкин давал ему, однако, свое освещение. Он не верил Ермолову до конца. Ни львиный облик старого военачальника, ни героическая его биография, ни легенда, сопутствовавшая ему, не заслонили в его глазах теневых сторон личности Ермолова. В 1834 году он записывал в дневнике:
“3-го июня обедали мы у Вяз.<емского>: Жук.<овский>, Давыдов и Киселев. <...> Он, может быть, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана" [111].“И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал...” Почти нет сомнения, что этот упрек был обращен и к “великому шарлатану”. На совете в Филях, когда Барклай высказался за оставление Москвы, Ермолов был убежден его доводами. Он говорил потом, что все, сказанное там Барклаем, следовало отпечатать золотыми буквами. Он сознавал, что “новое сражение бесполезно и невозможно”, - и тем не менее подал голос в его пользу.
Об этом тоже вспоминал Денис Давыдов, пытаясь не столько оправдать, сколько извинить Ермолова, который покривил душой, “дорожа популярностью, приобретенною им в армии” [112]. Но именно это и было для Пушкина “шарлатанством”, угодничеством перед общим мнением. Так, между прочим, считал и Киселев, другой участник обеда у Вяземского; через тридцать лет он записывал в свой дневник, что Ермолов, при всем своем достоинстве, более всего считался с “безрассудными крикунами”, - и замечал при этом, что Давыдов с братьями в 1812 году также не упускал случая напасть на благоразумную осторожность Барклая [113].

А.П. Ермолов
Фрагмент портрета работы Дж. ДоуБорясь с “немецкой партией”, “ермоловцы” тогда, кажется, вели себя не лучшим образом, и Давыдову пришлось посвятить несколько страниц своих поздних мемуаров оправданиям Ермолова от обвинений в прямых военных и дворцовых интригах. Он рассказывал, что Ермолов, вследствие “особого повеления” царя и чрезвычайных обстоятельств, писал его величеству письма, содержавшие “довольно резкие указания на некоторые ошибки Барклая, на малое доверие, внушенное им к себе войскам”, что указания эти были, к несчастью, справедливы и что Барклай, позднее познакомившийся с письмами Ермолова, сделался его врагом и невыгодно отозвался о нем в своем “Изображении военных действий 1-й армии”, - но что, вообще говоря, письма эти не дают повода считать Ермолова интриганом [114]. Так это было или не так, до Пушкина, видимо, доходили о них какие-то слухи, - а может быть, и сам Давыдов упомянул о них во время одной из бесед. Все это отражалось в “Полководце” не прямо, а косвенно, образуя некий исторический подтекст, на который остро реагировали заинтересованные современники.
Первым из них оказался цензор А.Л. Крылов, которому стихотворение попало в руки вместе с прочими материалами третьей книжки “Современника”. Цензора смутили “некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 12-м году, Барклай де Толли (так!), выраженные в таком виде”, что он почел себя “не вправе допустить их без разрешения начальства” [115].
Характерна здесь неопределенность формулировок: “некоторые мысли”, “выраженные в таком виде, что...”. Вряд ли Крылов мог выразиться точнее. Перед ним было произведение, не дававшее никаких оснований к цензурному запрету, - и которое вместе с тем было нежелательно разрешать.
Комитет переслал стихи Уварову, и тот, не найдя препятствий к их опубликованию, предписанием от 26 августа позволил печатать. 1 сентября разрешение было прочтено в комитете, и Крылов подписал одобрение. В начале октября книжка журнала вышла в свет.
Литературный и окололитературный мир пришел в волнение. Имена Кутузова и Барклая были достоянием истории современной, политической, государственной; еще живы были друзья, родственники, сослуживцы обоих полководцев, участники героической эпопеи двенадцатого года, знавшие и ее тайную историю; еще не затихли дальние отголоски принципиальных споров и личных, человеческих страстей.
В светских салонах и дружеских кружках спорили о “Полководце”.
Поистине необычайной была смелость поэта, решившегося напечатать эти животрепещущие стихи. Под ними не было имени, - но авторство было известно всем.
Александр Тургенев с восторгом писал о “Полководце” Вяземскому. Даже “Северная пчела” 15 октября напечатала восторженную заметку, где был приведен полностью текст стихотворения и сказано при этом, что гений Пушкина “не слабеет, не вянет, а мужается и растет” и что “Россия должна ждать от него много прекрасного и великого”. Несомненно, автором заметки был Н.И. Греч, который тремя днями ранее обратился к Пушкину с письмом.
“Не могу удержаться от излияния пред вами от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету, что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели <...> Честь вам, слава и благодарение!” [116]Эти восторги разделяли далеко не все. Многие видели в “Полководце” попытку умалить славу Кутузова, - и даже Елизавета Михайловна Хитрово, дочь Кутузова и давний друг Пушкина, на мгновение поддалась чувству обиды.

Е.М. Хитрово
Вскоре последовало и печатное “опровержение”.
Оно вышло из-под пера Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова, племянника великого полководца, доживавшего свой век почтенным старцем, флота генерал-казначеем, председателем ученого комитета Морского министерства и членом Российской Академии. Когда-то он сочинял по мере сил, переводил и печатался, и, вступая с Пушкиным в спор в защиту, как ему казалось, попранной истины и “любимого дядюшки”, он был движим и некоторым затаенным авторским честолюбием. Он написал три страницы опровержения и решил напечатать отдельной брошюрой, приложив к “Северной пчеле”; подумав, однако, заключил, что “Пчела” печатать не станет и что лучше приложить к “Санктпетербургским ведомостям”. 3 ноября 1836 года он принес рукопись в цензурный комитет Гаевскому [117].
Так вновь фигура Павла Ивановича Гаевского выросла на пушкинском горизонте.
Нам известно уже, что он не был бесстрастным исполнителем предначертаний устава, но считал долгом своим содействовать пользе словесности. Как он понимал эту пользу, мы тоже имели случай заметить. Он поэтому не только “одобрил” брошюру по долгу службы, но по старой привычке и прорецензировал, выразив автору свое удовлетворение. После этого брошюру прочитал Уваров. Он также пришел в восхищение, и честолюбивый автор отметил это в своем дневнике.
Утром 3 ноября труд Голенищева-Кутузова был одобрен, к вечеру он печатался, 5 ноября тираж был готов, а 8 ноября молниеносно вышедшая брошюра уже раздавалась подписчикам “Санктпетербургских ведомостей”. Создавалась совершенно необычная ситуация. Цензура брала на себя не свойственные ей функции: не контроля за произведением, а его поддержки и даже пропаганды. Глава цензурного ведомства по собственной инициативе читал не сомнительное произведение, судьбу которого предстояло ему решить, - так было с “Полководцем”, - а произведение, безусловно пропущенное и поддержанное цензором, судьба которого не вызывала сомнений.
“Опровержение” Голенищева-Кутузова оказывалось фактом идеологической политики.
Он напоминал, что заслуги Барклая официально признаны, что он получил “все возможные награды” от монарших щедрот: высшую степень по службе, титла графа, князя, имение и памятник в столице.
Эту официальную репутацию оберегала и военная цензура. Еще в 1828 году военный министр граф Чернышев потребовал изменений в рукописи стихотворца Н. Грамматина, где были “неприличные выражения сочинителя относительно к генерал-фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли” [118].
В заключении об “Очерках военных сцен 1812 - 1813 гг.” военный министр уведомлял, что рукопись может быть пропущена не иначе как по изъятии “мест, где упоминается о каком-то духе армии в 1812 году при отступлении оной из Смоленска, о всеобщем неудовольствии против главнокомандовавшего князя Барклая-де-Толли, которое побудило будто бы многих офицеров, служивших в штабе его, перейти к князю Багратиону, о московском пожаре и других событиях, ничем не доказанных и даже несправедливых”. Министр особо отмечал, что “Очерки” назначаются для журнала и, следовательно, для всеобщего чтения [119].
С другой стороны, в 1835 году в “Энциклопедическом лексиконе” Плющара была напечатана статья С.А. Марковича “Барклай-де-Толли”, где упоминалось о “несправедливости современников”, обвинявших главнокомандующего в “бедствиях отечества”.
Нужно было искать ориентиры в разноголосице мнений - официальных и неофициальных.
Ксенофонт Полевой в статье о книге В. Скотта “Взгляд на историю Наполеона” в “Московском телеграфе” назвал Барклая “хранителем России”, совершившим ради нее “великий подвиг”. Это тоже было не вполне уместно. Как известно, Уваров хотел запретить журнал за эту статью, но Николай I счел ее более “глупой”, чем “неблагонамеренной”. Но Уваров не забыл о ней: она вызывающе противоречила идее “самодержавия, православия, народности”.
Вся художественная концепция “Полководца” также противоречила уваровской доктрине [120].
Голенищев-Кутузов, напротив, говорил именно то, что нужно. Он оспорил мысль о разобщенности народа и вождя, коснулся “в нужном духе” вопроса о патриотизме и отдал предпочтение Кутузову. Так будет делать позднее А.И. Михайловский-Данилевский, составляя официальную историю Отечественной войны.
Уваров понимал, что нет прямых оснований запрещать стихи Пушкина; что запрет этот может вызвать нежелательные толки о своеволии цензуры; что - как знать? - может быть, их помимо него разрешит августейший цензор и что выгоднее прибегнуть не к насилию, а к противоядию. Брошюра Голенищева-Кутузова давала к тому удобный повод. И здесь нам нужно вспомнить об одном весьма любопытном споре, который касался именно цензурного статуса “Полководца” и развернулся уже в последние годы, когда был найден новый автограф стихотворения,
Он был обнаружен в ноябре 1969 года И.Т. Трофимовым в альбоме высокопоставленной почитательницы Пушкина - великой княгини Елены Павловны. Альбомный текст был полнее печатного. В нем были - с некоторыми изменениями - восстановлены стихи, известные нам ранее по беловому автографу:
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой;
Вотще! Соперник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей; а ты, оставленный, забытый,
Виновник торжества, почил - и в смертный час,
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.В печатном тексте было иначе:
Далее следовали две строки точек.
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти.
Вотще! -Есть основания считать, что альбомный автограф был записан уже после выхода печатного текста. Тогда заново возникает вопрос: как печатать “Полководца”? Если Пушкин в “Современнике” сделал уступку цензурным требованиям, - нам нужно восстановить купюру по новонайденному автографу. Если же журнальный текст есть результат изменившегося художественного замысла, - следует предпочесть его.
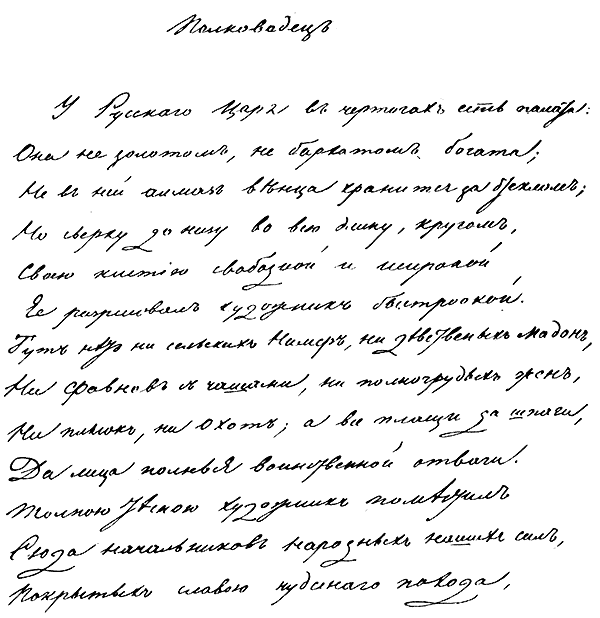
Автограф А.С. Пушкина в альбоме вел. княгини Елены ПавловныИ.Т. Трофимов придерживается первой точки зрения; на второй, выдвинутой в свое время Ю.Н. Тыняновым, настаивает Н.Н. Петрунина, посвятившая “Полководцу” две специальные работы [121].
Скажем сразу же, что творческий характер изменений в журнальном тексте настолько очевиден, что оспаривать его почти невозможно. Нельзя считать, вслед за И.Т. Трофимовым, что отточия, паузы, графические эквиваленты строф и оставшийся нерифмованным стих “нарушают художественную целостность текста” и что читатель непременно будет стараться узнать, “а что же скрыто за отточиями” [122]. Напротив, любой читатель, знакомый с поэзией Пушкина и пушкинской поры, знает, что и Пушкин, и его современники постоянно прибегали к этому художественому приему, описанному Ю. Н. Тыняновым. Он даже пародировался как непременная принадлежность романтической поэзии. Нерифмованным стихом (с отточиями) оканчивается “Осень. (Отрывок)”, “Когда за городом, задумчив, я брожу...”, “Из Пиндемонти”; строфы “XXIX, XL, XLI” первой главы “Онегина” соединены в одну и обозначены отточиями. Все это общеизвестно.

Великая княгиня Елена Павловна
Более того, в нашем случае именно нерифмованный стих указывает на изменившееся художественное задание. Его не было в первоначальном тексте; он придуман заново, и в соседнем - также переделанном - стихе явилось читателю блестящее сопоставление старого вождя и молодого ратника. Если бы Пушкин хотел просто обозначить цензурную купюру, все это было бы излишним: ему ничего не стоило, как в “Анджело”, просто вычеркнуть непропущенные строчки. Собиратели потаенной поэзии потом нередко вписывали их от руки; так, Пушкин сам записал для А. Тургенева вычеркнутые императором строки “Медного всадника”. Но здесь вписывать было нечего: “пропущенных строк” для этой новой редакции не существовало.
И цензор Крылов не знал, что было на этом месте в автографе, и ничего не вычеркивал. Пушкин подал ему рукопись, которая была потом точно воспроизведена в печати. Здесь была не цензура, а автоцензура, как правильно заметили уже ранние исследователи этого стихотворения [123]. И учитывала она не только и даже не столько возможную реакцию Петербургского цензурного комитета, сколько реакцию публики.
Нет никаких сомнений, что Пушкин не хотел видеть эти стихи напечатанными.
Автор стихов “Перед гробницею святой”, на которые он потом ссылался в своем “Объяснении” Голенищеву, Кутузову, писавший о Кутузове как “спасителе” России, - мог ли он в полемическом задоре заявить публично, что спаситель этот был “соперником” другого, несчастливого вождя, и “стяжал успех”, по праву принадлежавший этому другому? Он убрал “соперника”, убрал вообще всякие намеки на Кутузова; они были не нужны для художественной концепции стихотворения, где речь шла не о двоих, а об одном полководце, - не о соперничестве, не об интригах, но о трагедии вождя, не понятого народом. Но даже и это не спасло его от нареканий: Голенищев-Кутузов специально обратил внимание на это место, объявив его “совершенно неприличным вымыслом”.
Когда великая княгиня Елена Павловна просила его записать стихи в свой альбом и записать, конечно, в первоначальном виде, он сделал это, зная, что по альбомному тексту они печататься не будут. Адресатом его был небольшой кружок любопытствующих, - адресатом журнала была вся читающая Россия. Пушкин обращался к ней и рассчитывал, как мы бы теперь сказали, на “обратную связь”.
Он говорил, что его не интересует мнение о “Полководце” светского общества, но он хотел бы знать, как относятся к нему в кругу военной молодежи [124].
Поэтому он произвел автоцензуру или, если угодно, авторедактуру, - и это был творческий акт и его последняя воля.
А теперь нам нужно досказать своеобразную цензурную историю “Полководца”, - своеобразную уже потому, что она не окончилась, а только началась в стенах Петербургского цензурного комитета и Главного управления цензуры и продолжалась за их пределами.
Пушкину преподавался урок “самодержавия, православия и народности”.
“Все в жертву ты принес стране, тебе чужой”, - писал Голенищев-Кутузов, - всякое слово в этой строке противно истине. Воспеваемый полководец был лифляндец, следовательно для него Россия не чужая земля, лифляндцы для нас не иностранцы, и они и мы должны удивляться сему изречению”.С этим упреком был согласен даже либеральный Граббе. И он выражал официальную точку зрения.В 1839 году в “Северной пчеле” стали печататься воспоминания Греча «Начало ,,Сына отечества»", относящиеся к 1812 - 1814 годам. Тогда-то и получил продолжение спор Голенищева-Кутузова с Пушкиным. Греч упрекал уроженцев немецких провинций, что им был в сущности чужд патриотический и монархический дух, который охватил в описываемые годы самого мемуариста. Упрек был благонамерен, - но опровержение его пришло из самого III Отделения. Анонимный автор возражал, что остзейцы 150 лет служат в русской службе на военном и гражданском поприщах и “в высших должностях всегда отличались и теперь отличаются преданностию престолу. <...> Любя же русского монарха, нельзя не любить России, ибо в нашем понятии государь и Россия одно нераздельное...” К этой статье была приложена вежливая записка Дубельта: “Граф Александр Христофорович просит вас, любезный Николай Иванович, ежели можно, напечатать эту статью в «Северной пчеле».
Греч оправдывался, поясняя, что он не имел в виду эстляндских и курляндских дворян, чья преданность престолу не вызывает у него ни малейшего сомнения. Эту оговорку он сделал и в отдельном издании своих мемуаров. Здесь была “большая политика”, к тому же затрагивавшая лично уроженца Эстляндии графа Бенкендорфа, лифляндца графа Ливена, Остен-Сакенов и других приближенных царя [125].
Греч не остерегся; Булгарин, соратник его, был осторожнее. В “Петре Ивановиче Выжигине” (1831) он коснулся судьбы Барклая и сказал о нем почти теми же словами, какими через восемь лет анонимный оппонент Греча будет излагать точку зрения III Отделения:
“Полно тебе, Выжигин, защищать немцев! Послушал бы ты, как честят твоего Барклая-де-Толли не только в армии, но и в целой России!.. Весь народ просит и молит, чтоб дали русского вождя!”Это слова добросовестно заблуждающихся штаб-ротмистра и поручика, жаждущих немедленно вступить в бой за царя и отечество.“...Жаль, что вы, люди образованные, не почитаете русским того, кто трудится для России и проливает за нее кровь свою. Барклай-де-Толли русский, а не немец. Мало того, что он родился в наших русских провинциях, преданных России, но он служит от самой юности, покрыт ранами и доказал в Финляндии, что он столь же искусен в наступательных действиях, сколько теперь в оборонительных” [126].Это голос просвещенного патриота и монархиста, исправляющего заблуждения.“Прозаики и поэты запутали дело своими возгласами, восторгами, неправильными употреблениями эпитетов и даже искажениями самих событий”, - писал Булгарин в январе 1837 года, явно имея в виду Пушкина, а может быть, и Греча, с которым его не всегда связывало единомыслие. Спасители России - “император Александр и верный ему народ русский”, а отнюдь не Кутузов и не Барклай, которые “велики величием царя и русского народа” [127].
Наконец, все было досказано до конца. “Полководец” пушкинскими стихами должен был излагать идеи “Руки всевышнего...”
“Два демона”
Почти все произведения, вынесенные Крыловым на суд комитета в “донесении” 19 июля, имели нелегкую судьбу, и все - по разным причинам.
Статья “Александр Радищев” была запрещена вовсе. История статей Дениса Давыдова только что прошла перед читателем.
Остается сказать несколько слов о “стихотворениях, присланных из Германии”.
Автором этих стихов был мало кому известный в то время “Ф.Т.” - будущий великий поэт Федор Иванович Тютчев. Он переслал для “Современника” тетрадь стихотворений, и Пушкин отобрал из них шестнадцать или семнадцать в третий том, а другие оставил до четвертого.
Если не спеша присмотреться к тем страницам третьего тома, на которых впервые напечатаны эти стихи, внимание будет привлечено несколькими обстоятельствами.
Две страницы журнала аккуратно подклеены на узкие полоски бумаги, оставшиеся от вырезанных листов. В стихотворении “Не то, что мните вы, природа” три строфы заменены точками, а нумерация стихов спутана. Два последних стихотворения имеют один и тот же - пятнадцатый - номер.
Историк цензуры и журналистики, - быть может, единственный читатель, у которого журнальные опечатки вызывают не досаду, а нечто вроде профессионального интереса. Типографские ошибки иной раз имеют биографию, уводящую исследователя в глубины истории и литературы.
Когда-то известный советский библиограф заинтересовался биографией опечаток в тютчевских стихах и рассказал увлекательную историю, связав путаницу в их нумерации с цензурными затруднениями, которые им пришлось испытать[128].
Мы расскажем ее заново и иначе, попытаемся определить, что здесь имеет отношение к деятельности цензора и что не имеет.
Эта история начинается 13 июля 1836 года, когда Пушкин представляет цензору Крылову для одобрения стихотворение Тютчева “Два демона ему служили”, записанное на отдельном листке. Листок этот сохранился; на нем стоит порядковый номер XIV, зачеркнутый и переправленный на XV, а внизу - подпись цензора Крылова, вымаранная так тщательно, что бумага в этом месте прорвалась [129].
Стихотворение это, как нам известно теперь, посвященное Наполеону, хорошо знакомо всем любителям русской поэзии. Вот оно:
Два демона ему служили,
Две силы дивно в нем срослись:
В его главе орлы парили,
В его груди змии вились -
Ширококрылых вдохновений
Орлиный дерзостный полет -
Но в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.Под этим текстом Крылов подписал свое разрешение и вернул листок Пушкину.
Когда стихотворение ушло из рук Крылова, его стали обуревать сомнения. Ему начало казаться, что он поступил поспешно и опрометчиво. Мысль мюнхенского сочинителя была неясна; не таилось ли за ней какого-либо умысла? Кому служили “два демона”? Позволительна ли такая служба? Не противоречит ли она основам христианской религии и нравственности? Какую мораль из всего этого может извлечь читатель?
Мучимый неясными, но ощутимыми подозрениями, цензор берется за следующее стихотворение неизвестного Ф.Т. из Мюнхена, - и подозрения превращаются в уверенность. Это было стихотворение “Не то, что мните вы, природа...”:
Не то, что мните вы, природа, -
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.Призрак богопротивного немецкого пантеизма - учения об одушевленности природы - вставал перед цензором. В дни его молодости за это самое печальной участи подвергся профессор Галич, ныне отвергнутый и скитающийся, не искупивший вину свою даже чистосердечным раскаянием. А не далее как в 1832 году, накануне своего назначения министром, Уваров заявил, что намерен усмирять “бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии” [130].
Крылов исключил из этого - шестнадцатого по счету - стихотворения две средние строфы [131]. Это было записано в журнале комитета за 14 июля 1836 года и скреплено подписью Дондукова-Корсакова. Через много лет литератор Н.В. Сушков просил Тютчева вспомнить вычеркнутые строфы. Поэт не смог [132]. Восемь стихов его маленького шедевра погибли безвозвратно.
Тем временем беспокойство цензора по поводу пропущенного им стихотворения за номером пятнадцать возрастает до высшей степени - и он решает востребовать его обратно. Посоветовавшись с Дондуковым-Корсаковым, он задним числом, 16 июля, составляет “донесение” - уже не об одном, а о двух стихотворениях Тютчева, где указывает, что в “№ XV” он “не мог усмотреть действительной мысли автора” и затрудняется в одобрении [133]. С Пушкиным, однако же, иметь дело не так просто - и для верности он почитает нужным опереться на авторитет председателя цензурного комитета. 25 июля он отправляет редактору “Современника” записку следующего содержания:
“Милостивый государь Александр Сергеевич!Цензор явно покривил душой. Стихотворение “Два демона ему служили” пропустил он лично, вовсе не вынося его на заседание комитета, и ответственность лежала теперь на нем. Угроза служебных неприятностей приобретала зримые черты.<...> Из статей, возвращенных вам прежде за подписью Ценсуры, князь Михаил Александрович желает видеть №№ XV и XVI мелких стихотворений, принадлежащих автору в Мюнхене; ибо обе сии статьи пропущены комитетом в его отсутствие. Поэтому прошу вас всепокорнейше доставить эти №№ или прямо к его сиятельству, или прислать их для доставления на мое имя”.
Что же до второго стихотворения, то его пересмотреть нужно было просто ради вящего спокойствия, ибо мысль автора опять же была темна и неизвестно, что за собой скрывала. Рациональный ум петербургских цензоров не любил излишней темноты в выражении, особенно когда дело касалось общих вопросов бытия. В этих случаях духовная цензура ревниво оберегала свои права, следя, чтобы фантазия сочинителей держалась в строгих рамках православного канона. Цензор Крылов не был искушен в тонкостях богословской казуистики, но ощущение какого-то “нарушения” у него оставалось, хотя было неясно, в чем, собственно, оно заключается. Ссылка иа отсутствие “князя Михаила Александровича.” была нехитрым камуфляжем, так как он никуда не отлучался и председательствовал на заседании 14 июля собственной персоной.
Пушкин без особого удовольствия выполнил настойчивую просьбу своего “усерднейшего слуги Ал. Крылова” и оставил вещественные знаки своего негодования, о которых речь пойдет далее.
А сейчас сделаем маленькое отступление, чтобы объяснить путаницу в нумерации и больше к ней не возвращаться, ибо она с цензурованием стихов прямо не связана. * * *
Если мы просмотрим разные экземпляры “Современника”, мы убедимся, что они несколько отличаются друг от друга, потому что тираж печатался не весь сразу и в некоторые его части можно было внести исправления.
Есть экземпляры, где два стихотворения: “О чем ты воешь, ветр ночной” и “Поток сгустился и темнеет” были напечатаны как одно, за номером XIII. За ними шло стихотворение “Сон на море” (№ XIV), а далее интересующее нас стихотворение “Не то, что мните вы, природа” (№ XV) [134].
Существует отлично сохранившийся экземпляр журнала из коллекции цензурного комитета [135], где видно. что вырезаны были страницы с № XIII и XIV; текст под № XIII был разделен на два стихотворения, как ему и полагалось быть, и нумерация передвинулась на один номер вправо. Получилось два пятнадцатых номера. В части тиража успели исправить и эту ошибку, подставив к знаку XV литеру I; так как она подставлена была в уже сверстанную страницу, то во всех экземплярах немного сместилась.
Стихи же “О чем ты воешь, ветр ночной” и “Поток сгустился н темнеет” оказались объединенными, вероятно, потому, что редакторы - может быть, даже сам Пушкин - располагали стихи в определенном порядке друг за другом. Так, стихотворение “Два демона” имело вначале № XIV, затем перед ним было вставлено какое-то другое стихотворение и XIV исправлено на XV. Крылов в первом своем письме так и обозначает его номером пятнадцатым, а “Не то, что мните вы, природа” - шестнадцатым. 28 июля он пользуется уже новой нумерацией - на номер больше (XVI и XVII); очевидно, перед ними стало еще одно новое стихотворение. Когда же он исключил из рукописи “Двух демонов”, остались те самые шестнадцать стихогворений, которые и стали набирать для книжки, и, набирая, сделали ошибку, в которой он, цензор Крылов, повинен уже не был.
* * * Теперь можно вновь вернуться к Крылову, который получил назад стихотворение “Два демона” и густо зачеркнул свою подпись, прорвав бумагу. Второе же стихотворение - “Не то, что мните вы, природа...” он вернул, исключив две строфы. Тогда Пушкин, скрепя сердце, заменил их точками, как делал всегда с собственными произведениями. Замене этой Крылов воспротивился.
Отказ Крылова допустить точки в стихотворении Тютчева вызвал у Пушкина реакцию, подобную той, которая когда-то последовала на вычерки в “Анджело”. По-видимому, он написал Крылову письмо, нам неизвестное, из которого мы знаем одну лишь, но поистине драгоценную строчку, сохраненную в ответном письме Крылова от 28 июля:“Относительно замечания вашего на предполагаемые в № XVII-м точки, «что ценсура не тайком вымарывает и в том не прячется», долгом полагаю присоединить, с своей стороны, что ценсура не вправе сама публиковать о своих действиях; тем более она не вправе дозволить посторонние на это намеки, в которых смысл может быть не одинаков. По крайней мере я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками ценсурные исключения, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства” [136].Крылов не напрасно защищал престиж цензуры. Было весьма желательно, чтобы она меньше напоминала о себе. “Неблагонамеренных” авторов официально не существовало. Все они были отлично преданы престолу и православию; они могли быть лишь недостаточно осторожны - и тогда их нужно было направить на путь истинный, но лучше всего незримой рукой. Точки давали повод полагать, что сочинитель упорствует в заблуждении и потому подвергся некоему насилию. Возникал соблазн.Это была та же политика, во имя которой Чаадаева удобнее было объявить сумасшедшим, чем подвергнуть политическому преследованию.
Еще в 1825 году Плетнев писал Пушкину: “Если ценсор что вычеркнет из твоих пиес, я буду печатать с пропусками, прибавив на конце, что они сделаны самим автором: без того нельзя” [137].
О наивная ложь патриархальной эпохи, когда объявляли публично, что никто иной, помимо автора, не вторгался в его текст, хотя имел такую возможность!
Пушкин обманывал себя: времена Красовского не возвращались. Все совершенствовалось, в том числе и цензура, - и письмо Крылова было знамением этого мрачного прогресса. Но оно говорило не только о силе, но и о слабости.
Николаевское правительство начинало бояться общественного мнения.
Пушкин требовал, чтобы государственные институты от общественного мнения не прятались. За это он и получил назидание от чиновника департамента изящной словесности, который по официальной своей должности имел суждение и о литературных достоинствах усекаемых им сочинений.
В ответе Крылова Пушкину был известный резон: литературное достоинство стихотворения Тютчева значительно пострадало, и «сберечь» его можно было разве восстановив выпущенные места. Но все же было небез-различно - печатать ли обессмысленное стихотворение, без согласования лежащих рядом строф, или обозначить в тексте вынужденный пропуск.
Точки в тексте тютчевского стихотворения остаются красноречивым напоминанием о борьбе великого русского поэта за «сбережение литературного достоинства» стихов другого великого поэта и об одержанной им печальной победе.
«Литератор лучших, не нынешних времен»
23 июня 1836 года Пушкин закончил «Капитанскую дочку» и, вернувшись в Петербург, стал переписывать ее для печати.
Пушкин отлично сознавал, что цензурная история этого романа - о дворянине, нарушившем долг присяги и вступившем в общение с разбойниками и бунтовщиками, - будет не из легких. К тому же и сам Пугачев - изверг, самозванец, преданный анафеме, выглядел в романе очень привлекательным - человечным и героичным - куда более, чем в «Истории пугачевского бунта». Пушкин хотел издавать роман отдельной книгой [138], и это давало ему некоторую свободу. Ему принадлежало теперь право выбрать цензора и ускользнуть из-под опеки Крылова и навязанного ему Гаевского.Около 27 сентября, переписав набело первую часть романа, он посылает следующее письмо:
“Милостивый государь Петр Александрович. Некогда, при первых моих шагах на поприще литературы, Вы подали мне дружескую руку. Ныне осмеливаюсь прибегнуть снова к Вашему снисходительному покровительству.Здесь мы прервем чтение письма, чтобы задержаться несколько на личности его адресата.Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность ценсора с чувством литератора (лучших, не нынешних времен). Знаю, как Вы обременены занятиями: мне совестно Вас утруждать; но к Вам одному можем мы прибегать с полной доверенностью, и с искренним уважением к Вашему окончательному решению. Пеняйте ж сами на себя” [139].
Петр Александрович Корсаков был братом председателя цензурного комитета, который вначале тоже был просто Корсаковым, а потом унаследовал княжеский титул и фамилию “Дондуков” от своего тестя. Петр Александрович же остался лицом не титулованным. Биография его, однако, имеет самостоятельный интерес [140]. * * *
Он родился в 1790 годy; с раннего детства вспыхнувшая страсть к морю заставила его заняться морскими науками, и четырнадцати.тетним гардемарином он готов был уже отправиться в кругосветное плавание, но отец почел за благо удержать его при себе. Через три года он, однако, осуществил свою мечту; мы находим его в составе русской миссии в Голлаидии. Молодой офицер становится невольным участником европейской политической жизни в се тревожные годы - 1808 - 1810;он принят при дворе, но столь же охотно посещает дома амстердамских негоциантов. Дочь одного из них становится его женой. Он привязывается к Голландии, изучает язык .и литературу страны и не порывает связи с ней до конца дней своих. Первым наставником его в голландской словесности был крестьянин Херрит, садовник замка Оудмеэрстеэн, иа уст которого он впервые услышал стихи “отца Катса” - великого поэта Голландии; через тридцать лет Корсаков отдаст данъ уважения поэту и добрым словом помянет “садовника-филолога” в большой монографии о Катсе [141].
Политические интересы Корсакова растут вместе с литературными и театральными.
В 1811 году Корсаков - в России, а через год - уходит в ополчение.
Еще до своего отъезда в Голландию он становится страстным театралом и любителем литературы. Он принят у Шишкова, Державина [142], вообще его тянет к “старой школе”; печать классицизма лежит на собственных его сочинениях [143]. В октябре 1813 года в Петербурге ставят его трагедию “Маккавеи”. Трагедия была героична, патриотична и пронизана либеральными веяниями; она шла с большим успехом. А в 1816 году он оставляет Петербург и уезжает в деревню, в село Буриги, Псковской губернии, и пишет там стихи о блаженстве жить в кругу родных вдалеке от соблазнительного света. В Петербурге у него были какие-то неприятности, семейные - развод с женой, - а может быть, и другие.
Как бы то ни было, он уединяется в деревне и с головой уходит в литературные занятия. В 1817 году выходят его журналы - “Русский пустынник, или Наблюдатель отечественных нравов” и потом - с июля - “Северный наблюдатель”, которые он издает совместно с М. Н. Загоскиным, известным романистом и театралом - таким же, как он, - давним его другом.
У Корсакова был еще один брат, Николай Александрович, моложе его на десять лет. Это известный по пушкинским стихам лицейский его товарищ, постоянный издатель рукописных лицейских журналов, поэт, музыкант, композитор. Он скончался от чахотки во Флоренции в 1820 году, и Пушкин написал тогда стихотворение “Гроб юноши”, а затем вспомнил о “кудрявом певце, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной” в элегии “Роняет лес багряный свой убор...”
Через Николая Корсакова лицеисты поддерживали связь с его братом. Первый поэт лицейский, “Олосинька” Илличевский, собирался, воспользовавшись этой протекцией, поставить в Петербурге свою пьесу. Это было в 1815 году. Пьесу он не поставил, но в журналах Корсакова мы находим постоянно стихи и эпиграммы Илличевского. И не только Илличевского - в первом номере “Северного наблюдателя” отдел “Стихотворения” открылся романсом “Певец” с полной подписью: Александр Пушкин.
Так Пушкин становится постоянным “вкладчиком” журнала Корсакова; там помещено четыре его лицейских стихотворения и эпиграмма.
Впрочем, этот счет неточен: всего Корсаков напечатал шесть лицейских стихотворений Пушкина.
Шестое он поместил через двадцать три года в журнале “Маяк”, соиздателем которого был. Стихи эти сообщил ему бывший лицеист барон Гревениц; они назывались “Mon portrait” и были написаны по-французски. Корсаков напечатал их с подстрочным переводом и снабдил маленькими примечаниями, вероятно, по личным воспоминаниям.
“Я свеж лицом, волосы мои белокуры”, - пишет Пушкин. “В молодости Пушкина волосы его были почти светлорусы”, - замечает Корсаков [144].
Вряд ли их встречи были часты. Корсаков почти все время жил в деревне или в уездном городе Порхове. Вероятно, больше всего он слышал о Пушкине от брата.
“Пушкин был душой общества, а веселость его неистощимая, как истинный гений, - писал он в примечаниях к поэтическому автопортрету Пушкина. - Таков именно был Пушкин, когда присылал мне первые стихи свои для печати. И теперь еще храню я, как клейнод, собственноручное письмо его, в котором он напоминал мне о том за два месяца до своей смерти” [145].Так он и отвечал Пушкину на это письмо:“Не одна дружба Ваша к покойному брату Николаю, - сознание гениальности Вашей - заставляла меня радоваться Вашим успехам” [146].Корсаков писал Пушкину, как он гордился тем, что поэт, “долженствовавший прославить имя свое и русскую словесность”, избрал его журнал для общения с читателями. Конечно, он смотрел на Пушкина уже ретроспективно, хотя основания для гордости у него действительно были. С другой стороны, мы можем предположить, что сотрудничество в “Северном наблюдателе” оказалось небесполезным и для Пушкина, ибо журнал был явлением примечательным и может кое-что объяснить в деятельности Корсакова-цензора.“Северный наблюдатель” был журнал примечательный, и не только потому, что Корсаков печатал в нем отрывки из трагедий, звучавших как тираноборческие, - в том числе и свой перевод “Макбета”, не допущенный цензурой к полному изданию и постановке на сцене [147], - но и потому, что он несколько раз высказывался на его страницах как смелый антидеспотический публицист. Он заявлял прямо, что безнравственна та земля, где одному человеку воздают божеские почести, что жалок и сам этот человек, не ведающий ни истины, ни дружбы, которому никто не покажет при жизни его, прославился он или посрамился [148]. С первого же номера своего журнала Корсаков стал проповедовать свободу мыслей, в которой он видел условие политического благополучия [149]. А с номера шестого он начинает печатать свой обширный трактат “Краткая история свободы тиснения во Франции” [150]. * * *
Корсаков начинает с якобинской диктатуры и заявляет себя непримиримым ее противником. Для него это - деспотизм, которому неизбежно сопутствует ограничение свободы печати. За ним следует деспотизм Наполеона, сохраняющий “внешний вид республики наук при покорении Республики французской под иго первого ее консула”.
Главы о Наполеоне у Корсакова написаны с истинной политической проницательностью. Он показывает тлетворное влияние императорской власти на литературу: создание официозов и сравнительная свобода точных наук при угнетении наук исторических, философии и поэзии, учреждение верховной полиции над делами литературы. Он подробно прослеживает, как авторы гимнов в честь республики становились придворными поэтами, и в тоне его звучит негодование и презрение. А далее он касается таких щекотливых тем, что невольно удивляешься, как прошло через цензуру собственное его сочинение.
“Ничто столько не доказывает присутствия деспотизма, - пишет он, - как беспрестанные применения” [151]. Это пишется в период, когда раннедекабристская трагедия начинает переполняться “применениями”, намеками на “тиранию” в России. Рассказывая о дискуссии в парламенте в 1814 году о предварительной цензуре, Корсаков приводит мнение Ренуара, резко возражавшего против предварительного одобрения королем новых периодических сочинений. Счастье, что никто не напомнил об этом Корсакову в 1836 году.
Он закончил свое сочинение следующим пассажем:
“Где же та неограниченная свобода тиснения, которою Франция столько думает величаться?.. Может быть, она существует в одной только Англии; может быть, одна только конституция сего государства совместна с нею...” [152]Таков был журнал, издатель которого подал восемнадцатилетнему Пушкину “дружескую руку”.Корсаков возвращается в Петербург в 1835 году; вечно стесненные обстоятельства побуждают его искать службы. Он становится цензором Санктпетербургского комитета и ради заработка сотрудничает в “Энциклопедическом лексиконе” Плюшара, одна из статей - о 18 брюмера, - представленная им, привела к длительному конфликту с редактором издания Гречем, который написал донос Дондукову-Корсакову. Греч находил статью наполненной революционными выходками; Корсаков стоял на своем. В первый раз, вероятно, писатель и цензор менялись местами. * * *
Началась тяжба; статья была все же напечатана, а Греч отказался от издания [153].
Все это время Корсаков не изменяет своим давним увлечениям. Он собирается издать свой перевод “Макбета”, который он печатал когда-то частями в “Северном наблюдателе”, а затем - в 1821 году - переработал. В 1836 году перевод этот был запрещен [154]. Он продолжает писать и переводить для себя со своего любимого голландского языка, время от времени помещая свои переводы в “Сыне отечества” и “Библиотеке для чтения”, он готовит две монографии - о Иакове Катсе и Иосте фан дер Фонделе, пишет “Очерки голландской литературы”, а через восемь лет издает и “Опыт нидерландской антологии”, включающий произведения более тридцати поэтов - от средневековья до XIX века; пишет оригинальные повести по своим голландским впечатлениям... Он был небольшой писатель, необразованный филолог, знавший восемь языков. Интересы его лежали в области западного средневековья, раннего и позднего.
Время шло; Корсаков старел; либеральный дух, которому он отдал дань в дни своей молодости, все более выветривался. Место его заступала консервативность, религиозный квиетизм, к которому он был наклонен и ранее. Его филологические занятия поддерживали в нем эту склонность, или, может быть, наоборот - эта склонность диктовала ему выбор тем, образов, сюжетов. Его идеал - Иаков Катс, поэт и моралист, государственный муж и проповедник. Корсаков все дальше уходил в глубины христианской мистики: в легендах о Теофиле, о святом Брандане он искал религиозного нравственного идеала и патриархального “народного духа”. Их он противопоставлял современной литературе.
Писатель истинно религиозный, изучая течение веков, говорил он, видит требования своего века; он вдохновлен стремлением отвести волны от потопления его родимого пепелища... [155] Через несколько лет после смерти Пушкина он будет проповедовать христианскую любовь, самодержавие, православие и народность со страниц воинствующего обскурантного “Маяка”. Он будет писать о водворении истины и здравого вкуса,, о любви к ближнему в этом странном журнале, где кликушествовал “сотоварищ” его, Степан Онисимович Бурачок, полубезумный святоша, слогом литературного гаера поучавший Лермонтова и провозглашавший, что Пушкин отбросил русскую словесность на три десятилетия назад. Конечно, была разница между Корсаковым и Бурачком - разница в позиции, в литературном опыте, в знаниях и культуре; но имена их оказались связанными в сознании современников:
Просвещения Маяк
Издает большой дурак,
По прозванию Корсак;
Помогает дурачок,
По прозванью Бурачок.Так мимоходом оценил деятельность Корсакова в 40-е годы С.А.Соболевский [156].
И все же по своему духовному облику Корсаков выделялся среди прочих членов комитета. Современники единодушно вспоминали о его доброжелательности, спокойствии и непамятозлобии. * * *
“П<етр> А<лександрович>, как обязанный врач, считал долгом во всякое время, пору, погоду, при каких бы то ни было обстоятельствах, поспешить на помощь ближнему, - вспоминал о нем Нестор Кукольник, хорошо знавший его в последние годы. - Никогда не скучал он и не тяготился работой. Литература наша, в которой так мало писателей, но зато бесчисленное множество пишущих, отнимала у него по наружности все время; несмотря на то, срочные и бессрочные издания ценсуровались с удивительною быстротою, охотно и беспристрастно. По естественному чину природы, любя одних более нежели других, он не стеснялся своими привязанностями. Ни один из лучших писателей наших не имел ничтожного случая пожаловаться на его несправедливость, О других не знаю; но уверен, что то же можно сказать и в отношении ко всему пишущему миру. Ценсурные занятия, казалось, должны были поглощать всю его деятельность; правда, случались дни, когда из угождения своему нежно любимому семейству и вместе исполняя долг светской учтивости, он иногда садился в карету с корректурным листом журнала, иногда в гостях улучал минуту, чтобы уединиться в чужом кабинете и просмотреть ценсурные корректуры; но все это делалось без жалоб, без ропота, незаметно, тихо, спокойно” [157].Но дело было не только в индивидуальных чертах характера самого Корсакова. На его отношении к службе и поведении лежал явственный отблеск уже ушедшей эпохи - первых либеральных лет александровского царствования, с их освободительным патриотическим пафосом; он был свидетелем и участником преддекабристского брожения идей; в нем не угасло преклонение перед высотами человеческой духовной культуры, к которой он прикоснулся еще в ранней молодости. Он чем-то напоминал Сергея Николаевича Глинку - житейской непрактичностью, одержимостью литературой, даже своим несколько старомодным этическим пафосом, хотя и не принимавшим столь экстравагантных форм. Оба они писали о свободе печати во Франции и оба на посту цензоров оставались больше всего литераторами и меньше всего чиновниками, не приобретя ни карьеры, ни житейского благополучия.И так ли уж случайно это сходство? Не порождено ли оно во многом духовным строем поколения, прошедшего сквозь горнило двенадцатого года и последующих за ним лет?
Когда-то Корсаков писал, что откровенное и чистосердечное суждение всегда полезно, даже если идет вразрез с намерениями правительства. С того времени утекло много воды, и теперь цензор Корсаков, вероятно, высказывался бы с нужными оговорками, но существо его мыслей не переменилось полностью. В 1836 году, представляя в комитет немецкую рукопись Эрнста Неймана, с резкой критикой крепостнических отношений в экономике Белоруссии, он вносит в нее серьезные изменения, но настаивает на разрешении, ибо автор “всегда праводушен и благонамерен” [158]. Правкой Корсакова автор остался удовлетворен. И это не единственный пример, подтверждающий слова Кукольника, что у Корсакова обычно не было конфликтов с писателями: через несколько лет он подает мнение о драме Великопольского “Янетерский”, - мнение, перерастающее в критический разбор, - и автор сохранил благодарную память о добросовестности своего неожиданного рецензента, хотя тот и не допускал рукопись к печати [159].
Конечно, и он не мог, да и не всегда хотел противостоять требованиям цензурной политики; в июле 1837 года он запретил статью Одоевского о “Современнике” и Пушкине, памятуя рекомендации министра воздерживаться от сочувственных упоминаний в печати имени поэта [160]. Но при жизни Пушкина писатели его круга предпочитали обращаться именно к Корсакову: Вяземский отдает ему на цензурование своего “Фонвизина”, Гоголь - “Ревизора”, Дурова - через комиссионера - свои “Записки кавалерист-девицы”.
Около 27 сентября 1836 года к Корсакову обращается и Пушкин, прося его принять под свое покровительство первую половину романа “Капитанская дочка” и при этом сохранить в тайне имя автора [161].
Мы не знаем точно, какие соображения заставляли Пушкина выпускать свой роман анонимно. Вероятно, тому был целый ряд причин, в том числе и литературных. Повествование Гринева, стилизованное под старинные семейные записки, должно было создавать у читателя ощущение реальности, достоверности выведенных в нем лиц. Рассказчиком повести и ее автором выступал Гринев, настоящий же автор скромно принимал на себя титул “издателя” - ему попала в руки эта правдивая повесть и он напечатал ее, позволив себе написать лишь эпиграфы и переменить некоторые имена.
Это был обычный в прошлом веке литературный прием. Он развился из литературных мистификаций, пышным цветом расцветавших еще в двадцатые годы. Но искушенные читатели знали, что это прием, и в “издателе” часто угадывали истинного автора. Пушкин сам приучал их к этому, - например, “Повестями Белкина”, где истинным автором был якобы Иван Петрович Белкин, персонаж уже совершенно литературный, а издателем значился некто “А.П.”. Прошло некоторое время, и читатели узнали, что “Повести Белкина” принадлежат Пушкину.
Может статься, что Пушкин собирался вновь прибегнуть к этому приему, который, между прочим, сулил выгоду не только литературную. Когда в 1831 году Пушкин издавал “Повести Белкина”, он писал Плетневу с неподражаемым лукавством: “На днях отправил я тебе через Эслинга повести покойного Белкина, моего приятеля. <...> Отдай их в цензуру земскую, не удельную” [162]. Скрывшись за спиной Белкина, истинный автор получал таким образом возможность избежать “удельной” цензуры императора.
Пушкин имел основание опасаться за роман о дворянине-пугачевце куда больше, чем за новеллы Белкина. Издавая “Капитанскую дочку” отдельно, он должен был подумать и о том, как миновать “удельную” цензуру. Избранная им литературная форма позволяла это сделать, но нужно было найти “земского” цензора, который бы посмотрел сквозь пальцы на сокрытие имени.
Здесь-то Пушкин и обратился к Корсакову, напомнив ему о давнем знакомстве.
Пушкин мог быть вполне удовлетворен своими переговорами с Корсаковым. Петр Александрович ничего не выносил на заседание комитета; он предпочитал решать мелкие вопросы прямо с автором. Он сразу же предложил Пушкину встречу дома - у себя или у него - и сумел обойти некоторые формальности. В “Капитанской дочке” действующим лицом была Екатерина II, и потому начинал действовать § 9 цензурного устава о рассмотрении сочинений, касающихся двора. В 1831 году было разослано дополнение к этому параграфу, где было сказано, что “анекдоты” (бытовые сцены) о государях представляются на разрешение министру двора [163]. * * *
Дополнение действовало, когда речь шла о здравствовавших членах августейшей фамилии. В этих случаях автору обычно предлагалось сослаться на какой-либо официальный документ в подтверждение справедливости его “анекдота”. По отношению к августейшим особам, в бозе почившим, проформы соблюдались меньше; о допустимости “анекдота” мог в иных случаях судить и цензурный комитет. Корсаков свел на нет и эту формальность: он доложил о заключительных сценах “Капитанской дочки” председателю комитета, по-видимому, устно, так как в протоколах о докладе его нет ни слова. Надо думать, он представил дело так, как предварительно и договорился в письмах с Пушкиным: происшествие - романический вымысел, основанием к коему служит народная молва; отношение автора к “великой Екатерине” вполне почтительно и благожелательно" [164]. Цензурование рукописи прошло без инцидентов.
Несколько сложнее было сохранить аноним. Еще в 1830 году было предписано, чтобы ни одна статья не появлялась в печати без имени сочинителя. Среди журналистов началась паника. Невозможно было подписывать все мелкие заметки к объявления. Общий ропот был таков, что запрещение пришлось взять обратно; в январе 1831 года было дополнительно разъяснено: печатать анонимно возможно, но имя автора должно быть известно цензору; если же статья доставлена от неизвестной особы, то сие тоже должно быть объявлено цензору, но тогда вся ответственность падает на издателя, как бы на сочинителя статьи [165].
В 1836 году положение это оставалось в силе. Существовал реестр поступления рукописей, где отмечались даты их поступления, одобрения и обратной выдачи, имя цензора, автора (“если он известен”) и лица, представившего рукопись; иногда это был сам автор, иногда - издатель журнала, иногда - просто доверенное лицо. В последнем случае представлявший рукопись перекладывал на себя часть ответственности, он должен был объясняться по поводу крамольных мест, а по окончании всей процедуры цензурования забирать рукопись обратно.
Этот порядок и разъяснял Пушкину Корсаков в письме от 28 сентября. Он предупреждал, что цензура, допуская анонимы и псевдонимы, требует, чтобы представитель рукописи был реальным, а не фиктивным. Тогда Пушкин обращается к Плетневу с просьбой взять на себя попечение над “Капитанской дочкой”, но разговор с Плетневым происходит лишь в конце октября, когда Корсаков уже ознакомлен со всем романом. 29 же сентября, т.е. на следующий день после письма Корсакова об анонимах, в “комитетских регистрах” появляется скромная запись, ничем не отличающаяся от других.
Она гласит, что 29 сентября 1836 года от г. Дирина Корсакову была передана рукопись “Русский Декамерон 1831 г.”. Далее против этой записи значится, что Корсаков подписал разрешение 10 октября, а 15 октября рукопись была “отдана человеку Петра Александровича”, т.е. самого Корсакова [166].
Запись эта заслуживает того, чтобы присмотреться к ней внимательнее.
“Русский Декамерон 1831 г.” был произведением ссыльного Кюхельбекера и включал в себя любимую его поэму “Зоровавель”, о которой он еще в 1832 году писал в своем дневнике: “«Зоровавель» мой в руках Пушкина. Хотелось бы мне, чтоб его напечатали...” [167] * * *
Однако напечатать произведение Кюхельбекера было вовсе не так просто. В течение десяти л.ет он подавал просьбы о разрешении издавать свои труды, не выставляя на них своего имени. 9 октября 1836 года он писал на имя Бенкендорфа, и Бенкендорф входил с докладом к императору. Последовал отказ.
Он писал еще раз, в 1840 году, шефу жандармов Орлову и Жуковскому, и снова Жуковскому - в 1845 году. Жуковский хлопотал. На все просьбы неизменно следовала запрещающая высочайшая резолюция [168].
Лишь один раз хлопоты увенчались успехом, и в 1835 году Пушкин издал анонимно трагедию “Ижорский”. Кроме того, несколько стихотворений удалось напечатать без имени в дельвиговских альманахах - “Подснежник” и “Северные цветы” в 1829 году; кое-что - в “Сыне отечества” и “Библиотеке для чтения”, - видимо, тоже через Пушкина [169]. Об отдельном издании думать и не приходилось. Попытки такого рода были чреваты серьезными осложнениями и для самого Кюхельбекера, который мог быть каждую минуту лишен возможности даже переписываться с родными. В мае 1835 года он пишет Борису Глинке, своему племяннику и посреднику в литературных делах:
“Благодарю тебя, мой друг, что обещаешься хлопотать о моих детищах. Но прошу отложить все старания касательно их до возвращения Александра Сергеевича: у меня много причин, по которым желаю, чтобы никто не знал даже, что Зоровавель написан мною” [170].Эта-то поэма “Зоровавель” с прозаическим обрамлением и составила книгу “Русский Декамерон 1831 г.”, попавшую в сентябре 1836 года в руки цензора Корсакова. Предваряя события, скажем, что она вышла в свет в том же году и была отпечатана в Гутенберговой типографии, в которой печатался и пушкинский “Современник”. На титульном листе его стояло: “изд. И. Ивановым”, в печатном же объявлении “Современника” Иванов был указан как автор книги [171].Один из экземпляров этого чрезвычайно редкого издания был обнаружен в 1939 году и тогда же привлек к себе внимание. Было высказано предположение, что издатель - Пушкин [172].
Публикация письма Кюхельбекера Б. Глинке и наблюдения Н.П. Смирнова-Сокольского дают дополнительные аргументы в пользу этого предположения.
И еще несколько аргументов мы получим, если внимательно вдумаемся в цензурную запись.
Прежде всего, кто такой Дирин, представлявший книгу в цензуру?
Среди друзей семьи Кюхельбекера, оставшихся верными ей и в несчастье, пожалуй, самыми близкими были сестры Брейткопф. Одна из них - Наталья Федоровна - была замужем за Дириным и имела пасынка Сергея, о котором и идет речь.
Этот С.Н. Дирин был в 1836 году молодым человеком, двадцати двух лет, и только четыре года как кончил Санкт-петербургский благородный пансион. Приятель его, И.И. Панаев, вспоминал о детском благоговении, которое Дирин испытывал перед Пушкиным. Пушкин поощрял начинающего литератора и даже написал отзыв о его переводе “Моих темниц” Сильвио Пеллико, который Дирин перепечатал потом как предисловие к книжке [173]. Дирин носил Пушкину письма от Кюхельбекера, и Пушкин даже полагал одно время, что он служит в III Отделении, пока Плетнев наконец со смехом не разъяснил ему ошибку [174]. Посредником между Пушкиным и Кюхельбекером Дирин был уже несколько лет. В 1834 году Кюхельбекер просил прислать сочинения Пушкина; Дирин отобрал в лавке Смирдина на счет Пушкина нужные книги и отправил их [175]. А в конце августа - начале сентября 1836 года он опять пересылает Пушкину письма Кюхельбекера, которые тайком взял у матери, чтобы показать своему кумиру [176].
Если Пушкин хотел скрыть свое имя, представляя рукопись Кюхельбекера в цензуру, он должен был поручить это человеку надежному и проверенному, через которого уже издавна осуществлял связь с Кюхельбекером. Таким именно человеком был Дирин.
Взглянем на запись в последней графе ведомости, где расписывались в получении рукописи авторы или их посыльные и доверенные лица.
Здесь мы найдем росписи Гоголя, 13 марта взявшего назад процензурованную рукопись “Ревизора”, Бутовского, занимавшегося изданием записок Дуровой, Ишимова, представлявшего сочинения А.О. Ишимовой, популярной детской писательницы.
Иногда цензоры брали рукописи сами или присылали за ними, - это делалось тогда, когда они были хорошо знакомы с авторами и издателями, предпочитавшими иметь дело с ними лично. Так, Корсаков берет домой “Фонвизина” Вяземского, а Никитенко - рукописи, представленные Краевским.
Если автор или издатель не являлся и местожительство его не было известно, рукопись оставлялась в комитете, о чем делалась соответствующая запись.
Рукопись “Русского Декамерона 1831 г.” была “отдана человеку Петра Александровича”.
Корсаков, занятый сверх меры, берет на себя труд вернуть рукопись - кому? Безвестному молодому человеку, только-только входившему в литературу, с которым он, конечно же, не был знаком домашним образом.
Нужно думать, что Корсаков возвращал рукопись не Дирину.
Он возвращал ее Пушкину - истинному издателю, к которому питал безграничное уважение. Если наше предположение правильно, то представления о связи Корсакова и Пушкина в это время следует несколько расширить.
Тогда слова Пушкина в письме к Корсакову, “к Вам одному можем мы прибегать с полной доверенностию” - не обычный комплимент, а истинная правда.
* * * Следы этой доверенности мы можем уловить и позже. Но вначале закончим о “Капитанской дочке”.
Краевскому и Враскому, хозяину Гутенберговой типографии, удалось убедить Пушкина не издавать “Капитанскую дочку” отдельно, а напечатать в “Современнике”. Но и сделав это, Пушкин не отказался от мысли об особом издании. Он согласился на предложение книгопродавца Льва Жебелева присоединить роман к непроданным экземплярам “Повестей” 1834 года и выпустить в продажу как “Романы и повести”. Издание это в свет не вышло, и сохранился один-единственный его экземпляр. На нем стоит виза цензора П. Корсакова с датой: 8 января 1837 года. Билет на выпуск из типографии Корсаков подписал 5 мая, уже после смерти Пушкина [177].
Итак, Корсакову все же суждено было стать цензором “Капитанской дочки” - и фактическим, и официальным. Быть может, его предварительному разрешению Пушкин был обязан тем, что роман, отданный в “Современник”, не пробудил подозрительности цензора Крылова. Литератор “лучших, не нынешних времен” не заставил Пушкина раскаиваться в своем обращении к нему.
Силой исторической случайности Корсакову не довелось поставить свою цензорскую подпись на пушкинских книгах, вышедших при жизни поэта. Его имя оказалось связанным с неосуществленными замыслами Пушкина-издателя.
Впрочем, во всем этом есть и своя закономерность - и в том, что именно Корсаков - литератор старого толка, не чиновник, не коммерсант - оказался невольным участником неудачных издательских предприятий великого русского поэта; и в том, что самые предприятия были неудачны; а главное, в том постоянстве, с которым Пушкин в 1836 году стремится сделать Корсакова своим цензором. В библиотеке Пушкина сохранились третья и четвертая части «Стихотворений», которые он готовил новым изданием [178].
На них зачеркнуты прежние цензорские визы - Семенова - 1832 года и Никитенко - 1835 года. Вместо них написано: «2-го декабря 1836 г. Цензор П. Корсаков», а на последнем листе его же рукой: «Позволяется» - и подпись.
Итак, вновь Корсаков - вместо Семенова, уже не служившего, минуя Никитенко, к которому нет доверия.
Издание не вышло, как и другие, задуманные Пушкиным накануне гибели [179]. Еще два месяца - и связь Пушкина с Корсаковым оборвется так же внезапно, как возобновилась. В руках у Корсакова вещественным напониманием о ней останутся последние письма Пушкина - семейные реликвии и более чем реликвии - «клейноды», знаки отличия и достоинства, даруемые избранным вельможам запорожского воинства. «Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность ценсора с чувством литератора (лучших, не нынешних времен)». В самом деле, это был клейнод, и Корсаков сделал многое, чтобы оказаться его достойным.
Литература
1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 69.
2. Там же. с. 72; Дела III Отделения. с. 171.
3. Дела III Отделения. с. 172.
4. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 56.
5. Лемке М. Николаевские жандармы и литературА.С. 482; Дела III Отделения. с. 260-261; Томашевский Б. Мелочи о Пушкине // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.: Л., 1936. Т. 2. с. 294-296; Лемке М. Чаадаев и Надеждин // Мир Божий, 1905. № 10. с. 128-130; Черейский Л.А. История одной виньетки // Временник Пушкинской комиссии, 1973. Л., 1975. с. 83
6. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 28, л. 45.
7. Cм.: Исторические сведения о цензуре в России. Спб.. 1862. с. 43; Сборник постановлений и распоряжений о цензуре в России с 1740 по 1862 год. Спб., 1862. с. 220.
8. См. об определении понятия "альманах" в XIX веке и ныне: Смирнов-Сокольский Н.П. О русских альманахах и сборниках XVIII-XIX вв. // Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII-XIX вв. М., 1965. С 5-30
9. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, №1619.
10. Отеч. зап. 1839. Т. 2. Отд. VI (Современная библиографическая критика). С. 7. Обзор литературы о форме "Современника" см.; Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. с. 228-229.
11. Рус. архив. 1864. № 7/8. Стлб. 156; Переписка Я. К. Грота с П.А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 1. с. 616.
12. Дела III Отделения. с. 176.
13. Егоркин А. Пушкин и цензура // Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. с. 178-179.
14. См.: Грот К. Я. Василий Николаевич Семенов, литератор и цензор: К литературной истории 1830-х годов // Пушкин и его современники. Л.. 1928. Вып. 27. с. 185-187
15. ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 23, л. 4.
16. Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. с. 180.
17. С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819-1919. Материалы по истории С.-Петербургского университета. Пг., 1919. Т. 1. 1819-1835. с. 146.
18. Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. с. 369, 377 - см. также Устрялов Н. Воспоминания о моей жизни//Древняя и новая Россия. 1880. Т. 2. с. 767.
19. Яков Васильевич Толмачев, ординарный профессор Спб. университета... Автобиографическая записка//Рус. старина. 1892. № 9. с. 718-719.
20. Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1. с. 166.
21. Сухомлинов М. И. Исследования по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 1. с. 258-397.
22. Материалы по истории С.-Петербургского университета Т. 1. с. 173.
26. Там же. с. 347, см. также: Рус. архив. 1871. Стлб. 1728-1729.
27. Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Спб., 1864. Т. 1. Стлб. 1199-1200. Инструкция, введенная в 1820 г. в Казанском университете, была в 1821 г. распространена на Петербургский университет. Сухомлинов, Т. 1. с. 217-219.
28. Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования: Ист. записка... Спб., 1870. с. 43.
29. Библиографию учебников А. Крылова см.: Григорьев В. В. Указ. соч. с. 64-65. 95; отрицательный отзыв на "Исторические записки" Крылова // Там же. Ссылки, примечания и дополнения. с. 24.
30. См. материалы формулярных списков Крылова (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1110).
31. Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. с. 180, 186, 199.
32. Письмо Н. А. Добролюбову от 1 янв. 1861 г. // Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. 1952. Т. 10. с. 438. Отзывы Булгарина, чрезвычайно раздраженные, о "первых членах санта-германдады" - Крылове и Фрейганге - см. в его письме А. В. Никитенко от 30 апр. 1844 г.; см. также письма от 28 и 29 октября 1845 г. // Рус. старина. 1900. № 1. с. 176, 179.
33. Зотов В. Петербург в 40-х годах // Ист. вести. 1890. № 5. С. 310.
34. Чумиков А. Мои цензурные мытарства // Рус. старина. 1899. № 512. с. 584.
35. См. об этом: Каверин В. А. Барон Брамбеус. История О. Сенковского, журналиста, редактора "Библ-ки для чтения". М., 1966. с. 185.
36. "Всеподданнейший доклад" Уварова (от 6 января 1841 г.) цитируется по выпискам из цензурных дел архива министерства народного просвещения // ГПБ, 1/11, л. 29 об. - 30.
37. Пушкин и его современники. Спб., 1878. Т. 6. с. 22. 1910. Вып. 13. С. 35,36.
38. Жуковский В. А. Соч. Спб., 1878. Т. 6. с. 22.
39. См.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 301; Дела III Отделения... с. 170.
40. ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 23, л. 3.
41. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 72-73.
42. Остафьевский архив. Т. 3. с. 281.
44. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, №1321. л. 11.
45. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 92-93.
47. Лит. наследство. 1934. Т. 16/18. с. 548; ИРЛИ, ф. 244, оп. 16. № 130, л. 2-2 об.
49. Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825-1826). М.; Л.. 1964. с. 514-516.
50. ИРЛИ, ф. 309, № 1217. Слова из речи Фиески и некоторые другие выражения в оригинале письма по-французски; нами дан перевод.
51. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 94.
52. Остафьевский архив... Т. 3. с. 312-313.
53. Лит. наследство. 1952. Т. 58. с. 122-123.
54. Рус. старина. 1899. № 10. с. 318.
55. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 101.
56. ИРЛИ, ф. 244. оп. 27, № 23, л. 9, 12, 13.
57. Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. с. 182.
58. Остафьевский архив. Т. 3. с. 312.
59. Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21/22. с. 395.
60. См. подробно: Айзеншток И. Дневник А. В. Никитенко // Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. с. XXXIX-XLIV
61. Биографические сведения см.: Мухарский А. Гаевский Павел Иванович // Русский биографический словарь. М. 1914. Т. Гаа-Гербель. С. 110.
62. ЦГИА, ф. 1661. оп. 1. № 978. л. 9.
63. <Гаевский П. И.> Выписки из статей о достопамятнейших внутренних происшествиях в 1825 и 1826 годах, кои Академия наук предполагает внести в обыкновенный месяцеслов на 1827 год. Автограф // ГПБ, архив министерства народного просвещения, № з, л. 1-1 об. О "предыстории" цензурования месяцеслова см.. - Красный архив. 1925. Т. 13. с. 314-320.
64. Там же, л. 1-1 об. Выделено мною. - В. В.
67. ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 978, л. 18-1806.
68. См.: Отчет Публичной библиотеки за 1892 г. Спб. 1895. Прилож. С. 63-65.
69. Там же. с. 72 (письмо Раевскому от 29 авг. 1830 г.).
70. Там же. с. 73 (письмо от 4 сент. 1830 г.).
71. См. письмо Гаевского жене. ИРЛИ, 17926а / СХIIб1. л. 99-109; Дело по отношению генерал-адъютанта Бенкендорфа о цензоре Санктпетербургского цензурного комитета Гаевском (20.111.1829- 13.11. - 1833) // ЦГИА, ф. 735, оп. 10. № 56.
72. ГПБ, Архив МНП, № 3, л. 31 об. (Донесение председателю Спб. цензурного комитета 22 марта 1838 г.).
73. Там же, л. 26 (рапорт от 16 нояб. 1837 г.).
74. Письмо М. Е. Гаевской от 11 ноября 1839 Г.//ИРЛИ 17928 / СХII61, л. 67.
75. ГПБ, архив МПП, № 3, л. 2 (рапорт от 8 окт. 1829 г.).
76. Там же, л. 17 об. (рапорт от 11 июня 1836 г.).
77. Там же, л. 18 (донесение от 17 авг. 1836 г.).
78. Письмо В.П. Гаевскому от 10-23 сентября 1857 г. (Гаевский писал письма по неделям, приписывая ежедневно несколько строк). Запись от 22 сент. ГПБ, ф. 171 (В. П. Гаевского). № 76, л. 15.
79. ЦГИА, Ф. 777, Оп. 1, № 612, л. 6.
80. Письмо Гаевского в СПб. цензурный комитет 17 сент. 1829 г. // ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, №50, л. 1.
81. Протокол заседания от 17 сентября 1829 г. // Там же, л. 2-4 (отношение от 2 октября 1829 г.).
82. Переселенков с. Материалы для истории отношения цензуры к А.С. Пушкину // Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. с. 2-3.
83. Протокол заседания Спб. цензурного комитета 3 декабря 1828 г. // ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 51, л. 5.
84. Егоркин А. Пушкин и цензура//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. с. 177.
85. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1011, л. 26. Реестр статьям, одобренным цензором Гаевским.
86. Корнилов А. Молодые годы Михаила Бакунина. Спб.. 1915. С. 47.
87. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 22-23.
88. Рус. старина. 1870. № 3. с. 291.
89. См. подробно об этом: Скабичевский А. Очерки истории русской цензуры (1700-1863). Спб.. 1892. с. 222-223, 249-252.
90. Сборник постановлений по цензуре... Спб., 1862. с. 223.
91. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 66-68 (заседание от 15 окт.).
92. Там же, л. 5-5 об. (журнал заседания от 14 янв. 1836 г.).
93. Ср., напр., на протяжении только 1836 года, частичные изъятия в сочинении Платона Зубова "Подвиги русских воинов" (заседание комитета 23 июня 1836 г. // ЦГИА. Ф. 777, Оп. 27, № 29. л. 37 об.), в третьей части рукописи "Souvenirs et impressions pendant les campagnes de 1812, 13 et 14" и русском переводе ее "Очерки военных сцен 1812-1813 гг." (заседание 17 марта 1836 г. // Там же, л. 16 об.), запрещение рукописи "Воспоминания армейского офицера" (заседание 16 июня 1836 г. // Там же, л. 85 об.).
94. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 88 (письмо от 2 марта 1836 г.).
95. См.: Рус. зритель. 1828. № 1/2. с. 49; Давыдов Д. В. Стихотворения. М., 1832. с. Давыдов Д. В. Сочинения в стихах и прозе: В 3 ч. 2-е изд., испр. и доп. Спб., 1840. Ч. 1. С.
96. Рус. архив. 1900. Кн. 1. с. 365-366; Лит. наследство, т. 19/21. М., 1935. с. 91.
97. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 90.
98. См. полный текст: Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1940.
99. Современник. 1836. Т. 4. с. 7. Это важное место статьи Давыдова не было принято нами во внимание в первом издании книги, на что справедливо указал М. П. Еремин (Пушкин-публицист, 2-е изд., перераб. и доп. М., 1976. с. 451).
100. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 118-119.
101. См. письма его к Пушкину от 7 июля, 20 июля, 10 авг. и 23 нояб. 1836 года // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 135-136, 142-143, 151-152, 194-195.
102. Там же. с. 119; см. также письмо Давыдова к Н. М. Языкову от 14 июня 1836 г. // Рус. старина. 1884. № 6. с. 135.
103. ЦГИА, ф. 777. оп. 1, № 1321, л. 22-22 об.
104. Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. с. 14.
105. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 25. На тексте отношения дата 23 июля. Там же,ф. 772, оп. 1, № 848. Дело канцелярии Главного управления цензуры по представлениям С.-Петербургского цензурного комитета о рукописях, заключающих в себе описание современных военных событий, л. 32, 34.
106. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 26-26 об.
107. Там же, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 45 об.
108. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 160.
109. Там же. с. 164 (письмо Н. И. Гречу от 13 окт. 1836 г.); см.: Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года // Прометей. 1969. № 7. С. 17-37.
110. Давыдов Д. В. Соч. Спб., 1893. Т. 1. с. 138; Т. 2. с. 34, 111.
111. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 12. с. 330. Давыдов - Дмитрий Александрович (не Денис!).
112. Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. с. 138; Его же. Военные записки. С. 200.
113. Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Спб., 1882. Т. 3. с. 362.
114. Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. с. 153-155.
115. Донесение от 18 августа 1836 г. Подлинник. - ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 28. См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Спб., 1889. Т. 2. с. 400; Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 7; Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. с. 15-16.
116. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 163.
117. Об истории публикации брошюры Л. И. Голенищева-Кутузова см.: Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. "Полководец" Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. 4/5. с. 150-162 (здесь приведены и обширные выдержки из дневников Голенищева-Кутузова); Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина "Полководец" // Временник Пушкинской комиссии, 1963. М.; Л., 1966. С. 56-58.
118. ЦГИА, ф. 777, оп. 1. № 614, л. 2.
119. Заседание комитета 21 января 1836 г. - ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 8.
120. Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. с. 195-196.
121. Трофимов И. Т. "Полководец" // Прометей. 1975. № 10. С. 186- 200; Вошло в книгу: Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. М., 1979. с. 85-116; Петрунина Н. Н. 1) Новый автограф "Полководца" // Временник Пушкинской комиссии, 1970. Л., 1972. с. 14-23; 2) "Полководец" // Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов. Л., 1974. с. 278-305.
122. Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. С. 91.
123. Лернер Н. О. "Полководец" // Пушкин А.С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Пг., 1915. Т. 6. С.; Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. Указ. соч. с. 140.
124. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т 2 С 313-314.
125. Сев. пчела. 1839. № 28 (7 февр.). с. 112; Греч Н. Н. Записки о моей жизни. с. 352-353; Лемке М. Николаевские жандармы и литература. С. 127-129.
126. Булгарин Ф. Петр Иванович Выжигин, нравоописательный сатирический роман XIX века. Спб.. 1831. Ч. 3. с. 74, 75. Ср.: Кока Г. Указ. соч. с. 17-37.
127. Сев. пчела. 1837. №7. 11 янв.; ср.: Кока Г. Указ. соч. С. 27-28; Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристикА.С. 198.
128. Рыскин Е. Из истории "Современника". Стихи Тютчева в третьей книге "Современника" // Рус. лит. 1961. № 2. с. 199.
129. ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 77, л. 5.
130. Лемке М. Николаевские жандармы и литературА.С. 84.
131. Журнал заседания Спб. цензурного комитета от 14 июля 1836 г. - ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 78, л. 1 об.
132. Лит. наследство. 1935. Т. 19/21. с. 377.
133. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, №1321, л. 22 об.
134. Ср., напр., экземпляр Кабинета пушкиноведения ИРЛИ (шифр II жур/41).
135. Экземпляр Научной библиотеки Ленинградского университета (шифр II 94).
136. Письмо Пушкину от 28 июля 1836 г. - Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 144.
137. Письмо от 26 сент. 1825 г. // Там же. Т. 13. с. 236.
138. См. Записки И. П. Сахарова // Рус. архив. 1873. Кн. 1. Стлб. 974.
139. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 161-162.
140. Биографические сведения о Корсакове//Русский биографический словарь. Т. Кнаппе-Кюхельбекер. Спб., 1903. с. 273; подробная биография и библиография: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царкосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811-1817 гг. Т. 1 Спб., 1912. с. 440-450.
141. Корсаков П. Иаков Кате, поэт, мыслитель и муж совета. Спб., 1839 гг. с. 4-7.
142. См.: Жихарев с. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 348, 435.
143. Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия начала XIX века (1800-1815) // Учен. зап. / Куйбышев. пед. ин-т, 1959. Вып. 25. С. 336-344.
144. См.: В.<енгеров>. Mon роrtrait // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Спб.: Изд. Брокгауза-Ефрона, 1907. Т. 1. с. 168-169.
145. Маяк современного просвещения и образованности // Труды ученых и литераторов, русских и иностранных. Спб., 1840. Ч. 3. Словесность. Стихотворения. С. 135.
146. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 162.
147. См.: Шекспир и русская культура / Под ред. М. П. Алексеева, М.;Л.,1965.С.95-97.
148. См.: Русс<кий> Пуст<ынник>. (П. А. Корсаков). Наследники, или Безымянная земля // Сев. наблюдатель. 1817. № 22. с. 264.
149. Крскв Птр (Корсаков). Голос русского, или Мысли вслух в июне месяце 1817 года // Сев. наблюдатель. 1817. № 2. с. 78.
150. Сев наблюдатель. 1817. № 6. с. 199-208; № 9. с. 295-305; № 11. C. 362-366; № 13. C. 421-426; № 15. C. 55-60; № 16. с. 79-86; № 17. C. 121-126; № 18. C. 144-146.
153. Эпизод этот рассказан Гречем (Записки о моей жизни. с. 604-611; 823-824).
154. См.: Левин Ю. В. Кюхельбекер - автор "Мыслей о Макбете" // Pvc. лит., 1961. № 4. с. 192.
155. Маяк, 1841. Ч. 14, гл. 3. с. 47.
156. Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. с. 461.
157. Иллюстрация. 1846. Т. 2. № 6. с. 84. 158
158. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 34-35 об. (заседания 19 и 26 мая).
159. Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский (1797-1868). Спб., 1902. с. 70-71. См. также положительные отзывы о Корсакове Булгарина, вообще известного своими скандалами с цензорами // Рус. старина. 1900. № 1. с. 176.
160. Заборова P. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л.. 1956. Т. 1. с. 327.
161. Пушкин А.С.Полн. собр. соч. Т. 16. с. 162.
162. Там же. Т. 14. с. 189. (Письмо Плетневу около 11 июля 1831 г.).
163. Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. Спб., 1862. с. 316.
164. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 177-178 (письмо Корсакова и ответ Пушкина 25 окт. 1836 г.).
165. Лемке М. Николаевские жандармы и литература... с. 59.
166. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 200. Реестр рукописей и книг по Санкт-Петербургскому цензурному комитету 1836 года. № 403.
167. Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929. с. 67; см. также: Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы / Вступ. ст., ред. и примеч. Ю. Тынянова. Л., 1939. Т. 1. С.
168. См.: Дубровин Н. Василий Андреевич Жуковский и его отношения с декабристами // Рус. старина. 1902. № 4. с. 95-96, 105-111.
169. Лит. наследство. 1954. Т. 59. с. 449. Орлов В. Н. В. К. Кюхельбекер в крепостях и в ссылке // Декабристы и их время: Материалы и сообщения. М.; Л., 1951. с. 41. Забытый отрывок из "Аргивян" Кюхельбекера / Публ. Б. В. Томашевского // Там же. . с. 89-96.
170. Лит. наследство. 1954. Т. 59. с. 458.
171. См. об этом: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. с. 427-429.
172. Русский Декамерон // Ленингр. правда, 1939. 22 мая. с. 4; Десницкий В. Пушкин и его время // А.С. Пушкин. 1799-1949. Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. с. 255.
173. См. об этом: Лит. наследство, 1934. Т. 16/18. с. 572-574: Kauchtschischwili N. Silvio Pellico e la Russia. Un capitolo sui rapporti culturali russo-italiani. Milano, 1963. с. 28: Гиллельсон М. Из истории итальянско-русских литературных связей//Рус. лит. 1966. № 2. с. 247.
174. Панаев И. И. Литературные воспоминания. М.. 1950. с. 39-40.
175. Оксман Ю. Г. К истории библиотеки Пушкина // Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Л., 1934. С. 445-447.
176. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. с. 160.
177. Модзалевский Л. Б. Новые материалы об изданиях Пушкина (1831-1837) // 3венья. 1933. Кн. 2. с. 247-253.
178. Модзалевский Б. Библиотека А.С. Пушкина // Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 9/10. с. 83.
179. Об этом новом издании см.: Модзалевский Б. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в музее А. А. Бахрушина // Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. с. 109; Модзалевский Л. Б. Новое о неосуществленном издании стихотворений Пушкина 1836 г. // Кн. новости. 1936. № 7. с. 19-21; Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов // Пушкин: Исслед. и материалы. М.-Л., 1958. Т. 2. с. 44; Заборова Р. Б. Автограф письма А.С. Пушкина к А. А. Плюшару // Там же. с. 224-228.